
|
 © ©
|


|
| История афганских войн | ||
[Регистрация] [Видеоматериалы] [Рубрики] [Жанры] [Авторы] [Новости] [Книги] [Форум] |
afgan
Памирские походы. Читрал
...Больше ста лет назад Россия крепко встала на "Крыше Мира", чтобы когда-нибудь спуститься вниз по другому памирскому склону - в индийский Кашмир и китайский Кашгар. Пусть не сейчас. Важно - уйдя с Памира, обратно Россия не вернется. Придут другие...
Обсуждение произведений
"...Гилгит и Читрал берегутся особо. Если трудно идти на Ладак, то Гилгит и Читрал всегда под особым запретом. Лиловые и пурпурные скалы, синева снежных вершин. Каждый всадник в чалме привлекает внимание: не с севера ли? Каждая вереница груженых лошадок тянет глаз за собою... Сундук, караул, самовар, чай, чепрак, сюды-сюды, кавардак, колпак и много других слов странно и четко звучат в кашмирской речи. И плетеные лапти напоминают о других, северных путях..."
Н.К.Рерих
АЛТАЙ-ГИМАЛАИ
Глава. III. ПИР-ПАНДЖАЛ
(1925)
Внимательно прочитав Альпинистские Правила и Предписания министерства Культуры, Туризма и Спорта Департамента Туризма Правительства Пакистана, понимаешь, какое трепентное отношение к Читралу у пакистанцев:
- медицинская страховка не оплачивает эвакуацию из этого района (Глава IX, Пункт N. 42);
- фотографирование с воздуха запрещено (Глава XI, Пункт N.53);
- провоз наличных денег запрещен - только безналичный перевод, денег с собой не брать (Глава XIV, Пункт N.79);
- полеты в Читрал сильно зависят от погоды - планируя поездку, следует учитывать, что легко можно задержаться на 2-3 недели (Глава XVII, Пункты N.107-108).
Первое, что узнаешь из справочников про этот населенный пункт, это то, что Читрал - город на Северо-Западе Пакистана в провинции Западный Пакистан. Узел грунтовых дорог. Центр сельскохозяйственного района. До 1955 года - столица одноименного княжества.
Но Читрал это еще и высокогорная область в бассейне левого притока реки Кабул и реки Читрал (в верхнем течении - Ярхун, в нижнем - Кунар),охватывающая долины рек Луткух и Мулихо (Турихо). Читрал был одним из самых крупных княжеств Восточного Гиндукуша. В настоящее время входит в состав Северо-Западной пограничной провинции Пакистана. Ранее он управлялся местной династией Каторов. В конце XIX века в Читрале проживало около 80-100 тысяч человек. В нем обитали народности кхо, буришки, ваханцы, а также некоторое число кафиров (народность Дарды и Калаш). Читральцы были в основном заняты земледелием, скотоводством и ремеслом. В 1895 году Читрал был включен в орбиту британского влияния на севере Индии.
Читрал условно делится на две части - верхний и нижний, что в целом, соответствует исторически сложившемуся делению Читрала. Верхний Читрал (одно из названий которого Кашкор-и Бала) состоял из долины реки Ярхун от ее истоков до слияния с рекой Мулихо, а также долин Мурихо, Тирич и других. Центр Верхнего Читрала - кишлак Кашкор, состоявший из шести небольших, слившихся друг с другом поселений, расположенных по обоим берегам реки Ярхун. Нижний Читрал охватывает течение одноименной реки и ее притоков.
В словарной статье - (С. Drew, "The Northern barrier of India" (1877); Biddulph, "Tribes of The Hindoo Koosh" (Калькутта, 1880); Youngshushand, "The relief of Chitral" (1897)),мы находим то, что, собственно, и хотели бы вам рассказать про Читрал,в первую очередь:
" ...Читрал (Chitral) - область в Средней Азии, к югу от восточной части Гиндукуша,обнимает долину реки Читрал, притока реки Кунар, притока Кабула. Граничит на севере с Памиром Ваханом),на востоке - с горами Лагори, на северо-западе - с Гиндукушем, на западе - с афганской областью Бадахшан, на юге - с Кафиристаном. Долина реки Читрал очень плодородна - возделываются пшеница, ячмень, просо. Развито виноградарство и плодоводство. Читрал населен кафирами... ".
Читрал и Нуристан раньше были известны как Кафиристан - "страна неверных". До начала ХХ века местные жители оставались язычниками. Потом афганский эмир насильно обратил нуристанцев в ислам. В Читрале язычники-калаши остались только в трех небольших долинках, да и там они уже в меньшинстве. Многим хочется туда заглянуть, но есть большой риск застрять там из-за погоды...
Золотые муравьи дердов.
Наличие "реликтовых" племенных образований лишь только подчеркивает этнический рисунок этого изолированного, высокогорного района. Попробуем найти "узелки" на этом пестром ковре.
Неарх, полководец Александра Македонского, с 334 правитель Ликии и Памфилии, участник похода в Индию, командовавший флотом Александра Македонского, совершивший плавание из Индии в Месопотамию, утверждает, что видел шкуры муравьев, роющих золото, похожие на леопардовые шкуры (речь, скорее всего, идет о... сурках!).
Мегасфен, стоявший послом при дворе Чандрагупты, автор "Индики" - одного из основных древнегреческих сочинений об Индии, передает об этих муравьях следующее: "...в стране дердов, большого индийского племени, живущего к востоку в горах, есть плоскогорье почти 3000 стадий в окружности. Под этим плоскогорьем находятся золотые рудники, где рудокопами - муравьи, животные величиной не меньше лисиц. Они отличаются необычайной быстротой и живут ловлей зверей. Зимой это животное копает землю и собирает ее в кучи у входов в норы подобно кротам. Это - золотой песок, требующий только незначительной плавки. Соседние жители тайком приезжают за этим песком на вьючных животных; если это происходит открыто, то муравьи упорно борются с ними и преследуют бегущих. Настигнув людей, они убивают их вместе с вьючными животными. Для того,чтобы муравьи их не заметили, похитители разбрасывают в разных местах куски мяса диких зверей и когда муравьи разбегаются за добычей, уносят золотой песок. Не умея выплавлять золото, они продают песок в необработанном виде купцам за любую цену..."
Геродот, так же, как и Неарх и Мегасфен,передает древнейшую форму легенды, возникшей в Ладаке на тибетско-индийской границе. Эта легенда сохранилась в тибетской, монгольской и китайской версиях. Новелла принадлежит местным золотоискателям и купцам и выдумана, чтобы отпугнуть конкурентов:
"...Другие индийские племена обитают вблизи области Пактики и ее главного города Каспатира севернее прочих индийцев. По своему образу жизни они приближаются к бактрийцам. Это самое воинственное из индийских племен, и они умеют добывать золото. В их земле есть песчаная пустыня, и в песках ее водятся муравьи величиной почти с собаку, но меньше лисицы. Несколько таких муравьев, пойманных на охоте, есть у персидского царя. Муравьи эти роют себе норы под землей и выбрасывают оттуда наружу песок так же, как это делают и муравьи в Элладе, с которыми они очень схожи видом. Вырытый же ими песок - золотоносный, и за ним-то индийцы и отправляются в пустыню. Для этого каждый запрягает в ярмо трех верблюдов, по бокам - верблюдов-самцов, которые бегут рядом, как пристяжные, а в середине - самку-верблюдицу. На нее они и садятся, выбирая преимущественно спокойную, которая только что ожеребилась. Их верблюды быстротой не уступают коням, а помимо того, могут нести гораздо более тяжелые вьюки.
В такой верблюжьей упряжке индийцы отправляются за золотом с тем расчетом, чтобы попасть в самый сильный зной и похитить золото. Ведь муравьи от зноя прячутся под землей. Солнце в стране этих народов самое знойное утром, а не как в других местах в полдень...
...Когда индийцы приедут на место с мешками, то наполняют их (золотым песком) и затем как можно скорее возвращаются домой. Муравьи же тотчас, по словам персов, по запаху почуяв их, бросаются в погоню. Ведь ни одно животное не может сравниться с этими муравьями быстротой (бега), так что,если бы индийцы не успели опередить их (пока муравьи соберутся), то никто бы из них не уцелел. Так вот, верблюдов-самцов (те ведь бегут медленнее самок и скоро устают)они отвязывают в пути и оставляют муравьям (сначала одного, потом другого). Самки же, вспоминая оставленных дома жеребят, бегут без устали. Таким-то образом индийцы, по словам персов, добывают большую часть золота, а некоторые гораздо меньшее количество выкапывают из земли..."
Дарды (Dards)- народ, населяющий страну дердов, описанную Мегасфеном и другими авторами. Дарды - народ арийского происхождения, населяющий страну у Гильгита, между Кашмиром и Хинду Кушем, и вниз по ходу Инда почти до того места, где он выходит из ущелья на равнины. Колонии этого народа также находятся дальше на восток в Балтистане, где их знают под именем Брокпасов, или же Горцев. Вместе с Кхосами из Читрала и Хинду Куша, Кафирами из Кафиристана, Дарды классифицированы современными писателями как потомки Писачей, упоминаемых санскритскими авторами.
Такая классификация не была принята всеми учеными, однако, пока что ни одной альтернативы не было выдвинуто. Хотя их происхождение арийское, язык дардов не может быть классифицирован ни как индийский, ни как иранский, поскольку он отделился от основной ветви после того, как индийская ветвь "мигрировала" в сторону Кабульской долины, но раньше того времени, когда характерные черты иранского языка развились полностью.
Геродот, хотя и упоминал о них, но не называя их дардами. С другой стороны, санскритские авторы знали их как дарадов, и они являются тем народом, который Мегасфен и Страбон называли "дердаи", и те, кого Птолемей называл "дарадраи", и кого Плиний и Нонус называли дардами.
Большинство дардов принадлежит к племени Шин, и их язык это язык Шина либо очень тесно связанная с ним форма языка. По религии современные дарды почти все мусульмане, но колонии Брокпа в Балтистане исповедуют буддизм, как и их соседи.
Неизвестно когда дарды стали исповедовать ислам, но вплоть до середины прошлого столетия ислам исповедовался очень мало. И даже после правления Нафу Шаха остатки доисламской религии еще оставались, так что дарды исповедовали весьма отличающуюся форму религии от той, которую начали исповедовать те, кто присоединился к последователям Корана.
Например, вплоть до приблизительно 80 лет назад, мертвых сжигали и не хоронили, и этот обычай практиковался тут и там вплоть до 1877 года, когда последний такой ритуал был зарегистрирован. Память об этом ритуале все еще живет в обычае зажигания костра возле могилы после похорон. Вместо того, чтобы считать собаку нечистым животным, дарды считают собаку другом человека так же, как и любой англичанин.
Женитьба племянников в первом колене - обычай, распространенный между мусульманами - рассматривается с ужасом как кровосмесительный союз жителями верхних Шинских племен. Несмотря на то, что ислам распространил лунный календарь, древнее солнечное времяисчисление, основанное на знаках зодиака, до сих пор существует.
Согласно Биддулпу: "...Ислам (1880) все еще не распространил обычай изолировать женщин, которые сегодня свободно общаются с мужчинами по любому поводу. Молодые парни и девушки различных семей обедают и разговаривают вместе без ограничений...
...Они не будут пить молока и трогать ни одного молочного продукта в любой форме и считают, что, нарушив этот обычай, можно обезуметь. В этом нет ничего от поклонения. Наоборот, они считают корову грязным животным и основывают свое убеждение на том основании, что такова воля местных божеств.
Это (религия дардов) самое настоящее поклонение природе, практикуемое земледельцами и пастухами, проживающими на суровой земле, среди самых высоких гор в мире. Язык писача, который составляет важную часть дардских языков, как уже упоминалось, - что-то среднее между индийским и иранским языками, и одна из его ярчайших характеристик это то, каким необычным образом он сохранил в себе древние арийские формы речи почти без изменений вплоть до самого сегодняшнего дня. То же самое может быть сказано и о религии дардов..."
Стейн (Stein 1979) предполагает, что существует связь между людьми, которых в классические времена греческие авторы называли дарадраями и людьми в северо-западных частях Кашмирского Каракорума. Стейн упоминает Фредерика Дрю, колониального офицера, как знатока этнографии народа дардов. Однако еще до Дрю дардов впервые упоминал Мир Иззатулла, который был помощником Вильяма Муркрофта, ветеринара Восточно-индийской Компании. Иззатулла был послан Муркрофтом из Кашмира через Лех в Ярканд, в поисках лошадей. Его записки были переведены с персидского на английский и опубликованы в Квартальном Ориенталистском журнале в Калькутте в 1825 году.
В этих записках он упоминает: "дарды, независимое племя в горах, три или четыре марша от Драс, которые говорят как на языке пашту, так и на языке "дард" (Izzet Ullah 1843). Скорее всего, тут упоминалась Асторская долина, куда можно попасть через Деосайские долины от Драс, где сегодня, как и раньше, говорят на языке шина, и где вряд ли встретишь пушту.
Х.Х.Вилсон, профессор санскрита в Оксфордском университете, подготовил записки самого Муркрофта для публикации. Он добавил сноску о репортаже Иззета,связывая этих дардов с дардами классических греческих и санскритских работ. "Немногие народы прослеживаются в течении такого длительного исторического периода в том же самом месте, как эти, так как это именно они являются теми дарадами, упоминаемыми в санскритских источниках о географии этих мест, а также дарадами или дарадраями Страбона. Складывается впечатление, что Вилсон открыл этих людей, которых на основании работ географов-классиков он ожидал встретить именно на этом же самом месте.
Связь между прошлым и будущим таким образом установлена, и термин стал общепринятым после частого употребления. Затем появился Лейтнер, как непримиримый адвокат этнографической и политической реальности существования дардов и Дардистана, замечая, что "страна со времен ее посещения мной в 1866 году известна как Дардистан, хотя на имя "дарды" ни одно из племен этой страны, которых я встречал, не заявляло прав" (Leitner 1983). Хотя Роберт Шоу упоминает в сноске, что "Я слышал, что люди Дра племени дардов называют дардами народ, от которого они происходят в Асторе именем "дарде" (Shaw 1878), хотя ни один из авторов по этой тематике не подтверждает этого.
Наоборот, Джон Бидулп, который провел много лет в Гилгите, как политик, написал, что "ни одно из племен, которых называют дардами в этом регионе, не признают этого этнонима" (Biddulph 1880/1977). Бидулп воспринимает лейтнеровский термин "Дардистан" как "название, основанное на непонимании" (Biddulph 1880/1977), но принимает этот термин, как удобный способ обозначить тяжелый, разнообразный и в основном неизвестный Каракорум между Кашмиром и отрогами Хиндукуша. Использование этого термина любопытно совпадает с тем, как в санскритских источниках подобным термином обозначали неопределенные свирепые народы, жившие в горах за границами цивилизации. Таким образом, не удивительно, что в наши дни все еще упоминаются фантастические элементы из более ранних источников.
В Словаре племен и каст Пенджаба и северо-западных границ, изданном в 1919 году, написано, что "племена, населяющие современные Кафиристан, Гилгит, Читрал, назывались Писача или "поедающие сырое мясо", и традиции и ритуалы каннибализма до сих пор еще живы среди шин Гильгита, вай и башлаг Кафира, и в Дардистане". И действительно, дарды Гильгита имели репутацию каннибалов в Кашмире еще в 1866 году (Ibbetson, Maclang, and Rose 1919).
Год 1866 - это год визита Лейтнера в Гильгит, где он слышал известные легенды о царе-каннибале Гильгита - Шри Бадате. Лейтнер преуспел в том, что он дал имя стране, несмотря на то, что ее границы являются зыбкими. "Дардитстан или страна дарад, индийских мифов, включает в себя в узком смысле страны, в которых население говорит на языке шина. В широком смысле - Хунза, Нагир, Ясин, и Читрал. И в самом широком смысле - также и части Кафиристана" (Leitner 1893). Видимо он не чувствовал необходимости указать, на каком основании его термин распространялся на эту территорию.
Дардская подгруппа [Dardic] - условное название группы. Более пяти миллионов человек. Распространены в горных районах Северного Афганистана, Пакистана и Индии. Термин происходит из древнеиндийского (dar?d- "народ, соседящий с Кашмиром". Срравнение также приводимое Дж.Грирсоном d?rada, - darada-, обозначавшее население северной части Индии, и современное dard, d?rd - самоназвание носителей одного из диалектов языка шина - гурези).
Шина (Брокпа) - более 520 тысяч человек в Пакистане (1981) и более 20 тысяч человек в Индии. Пишача или пайшачи (устаревшее) - связаны со старыми названиями племен, населявших северо-запад Индии.
Кхо (Читрал, Читрари, Чатрори, Арния, Ховар) - читральцы, народ, основное население территории бывшего княжества Читрал на Севере Пакистана. Язык Кхо - кховар, относится к дардским языкам. По религии большинство Кхо - мусульмане-исмаилиты. Занимаются земледелием и скотоводством. Ремесленники, особенно кузнецы, славятся у соседних народов. Общественный уклад, быт и семейные отношения Кхо изучены слабо. Язык Кховар [Khowar (Khawar, Chitrali, Citrali, Chitrari, Arniya, Patu, Qashqari, Kashkari)] /KHW/. Язык кховар распространен в Верхнем Читрале - на севере Пакистана, отдельные группы - в Афганистане и Индии, единичные выходцы и их потомки живут в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана. До недавнего времени, язык Кхо был бесписьменным. В последние годы появились издания на арабском алфавите (в модификации урду), ведутся радиопередачи. Является также языком общения для носителей других языков в Читрале. Название кхо-вар "язык (народа) кхо" употребляется носителями языка, соседи называют его "читрали", "читрари" по названию местности Читрал. Таджикизированное "чатрори" используется в Горно-Бадахшанской автономной области для обозначения выходцев из Читрала и их языка. В литературе встречаются также названия "арния" (устаревшее) и "ховар" (устаревшее, неточное прочтение Khowar). Всего около 250 тысяч челлвек. В том числе - 222 800 человек (1992) в Пакистане и около 19 200 человек (2000) в Индии.
Этнографические группы таджиков в Читрале часто выступают как "носители других языков". В горном Бадахшане - это язгулемцы, рушанцы, бартангцы, шугнанцы, ишкашимцы, ваханцы. В Афганистане - это мунджанцы и зебагцы, а также рушанцы, шугнанцы, ишкашимцы и ваханцы. В Пакистане (обл. Читрал) - это мунджанцы и йидга. В Китае (Синьцзян-Уйгурский автономный район) - это сарыкольцы и ваханцы. Языки - памирские.
"Нет слов и красок, чтобы описать наполненность бытия этих гор. Здесь будущее лучится из прошлого и видятся вещие сны. Возможно, это место, где формируются судьбы Земли, картину которых мы воспринимаем много времени спустя. Часто горцы знают о тм, кто к ним вскоре придет и что произойдет с ними в будущем. Это фантастическое пространство любви и ненависти, находящееся всегда по ту сторону".
Сокол, покинувший свое гнездо, попадается на кисть короля
Афганская пословица
Аборигены этих труднодоступных земель: языческие племена ашкуни, вайгали, кати, прасун и другие лишились родной веры в результате "проповеднического" похода кабульского эмира Абдуррахман-хана в 1895 году. Сегодняшние нуристанцы, потомки уцелевших язычников после войны с "железным эмиром", исповедуют ислам, носят мусульманские имена и одеваются вполне по-мусульмански. Последние, необращённые язычники - народ калаша - остались лишь на территории бывшей Британской Индии, в трёх долинах близ города Читрал, куда не дотянулся меч "железного эмира".
В целом нуристанцы весьма интересны - и в плане внешности (немало рыжих и шатенов с европейскими чертами лица), и в плане языкового разнообразия (едва ли не в каждой долине своё наречие), и в плане бытовой культуры. Много раз дискутировавшийся вопрос о второй волне вторжения индоарийских народов в Индию сводится к следующему: примерно на рубеже II и I тыс. до н. э. от Памирского горного региона через Гилгит и Читрал в Центральную Индию хлынула новая волна индийских арьев, которые частично наслоились на более древние ведийские племена индийских арьев, частично оттеснив их к горам. Новые племена иногда называют эпическими арьями, так как именно они выступают в главных ролях в древнеиндийском эпосе. Первым среди них было племя куру. По археологическим данным известно, что в последние века II тыс. до н.э. памятники федоровской культуры продвигаются все далее к югу: в Семиречье и долины Тянь-Шаня, в области правых притоков Аму-дарьи, на Памир. Влияние этой культуры заметно и на памятниках местных землевладельцев. Возникает вопрос, не является ли указанный процесс археологическим выражением событий, связанных с продвижением на юг второй волны индийских арьев?
С приходом к власти в Германии Третьего рейха эмиссары Гитлера зачастили в Кабул. Германские псевдоученные, отправленные Гиммлером, занимались исследованиями проблемами расовой чистоты, которой были так одержимы нацисты. Прибыв в Афганистан, они направлялись прямиком в Нуристан, где в уединенных горных долинах жили светловолосые, голубоглазые люди, судя по всему, далекие потомки исконного населения страны.
В 1950-60-е годы Нуристан с его нетронутой природой и загадочными племенами был популярен среди зарубежных этнографов и туристов-горников. Один из них - Эрик Ньюби в своё время написал об этом книгу под названием "Прогулка по Гиндукушу" (Eric Newby A Short Walk In Hindu Kush).
Сейчас это одна из беднейших областей страны. Туристы и гуманитарщики-иностранцы предпочитают не показываться здесь из-за нестабильной обстановки - нередко талибы делают вылазки через границу и, "напакистанив" правительственным войскам, уходят обратно в сторону Читрала.
На карте это то самое место, где почти сходятся границы четырех государств: Китая, Таджикистана, Пакистана и Афганистана. Здесь во времена холодной войны сталкивались интересы противоборствующих друг с другом государств: Китая, бывшего Советского Союза, сориентированного на Запад Пакистана и Афганистана, которому судьба отвела в истории роль вечного буферного государства.
Район Читрала в военно-стратегическом отношении чрезвычайно важен. Узкая полоска земли, большая часть которой занята не просто горами - восьмитысячниками! - была определена за Афганистаном именно в буферном качестве российско-британскими соглашениями второй половины прошлого века, когда Россия пришла в Среднюю Азию и Британия была вынуждена с этим считаться.
Этот "аппендикс", отделяющий Таджикистан от Кашмира, - свидетельство нежелания двух держав иметь общие границы между своими колониальными владениями. Российским пограничным постам, которые находятся здесь - от 110 лет и более. Это и есть знаменитый Ваханский коридор. Именно сюда гонимый страхом перед полным разгромом басмаческого движения переселился в 30-х годах со своим кочевьем из рода тейит лидер памирских киргизов, легендарный уже Рахманкул-хан.
Однако мирная жизнь в узких ущельях и долинах афганского Памира не была столь уж спокойной. Да, со своими многотысячными стадами Рахманкул был одним из самых богатых местных вождей в тогдашнем Афганистане. Он имел хорошие связи с королевским афганским режимом, который присвоил хану титул "Pasbani Pamir" - "Защитник Памира" - в знак признания его роли в обеспечении безопасности северо-восточной границы страны.
Но все закончилось, включая и единоличную власть Рахманкула среди местных киргизов, в апреле 1978 года, когда Народно-демократическая партия Афганистана пришла к власти в Кабуле. В этом году, предчувствуя, вероятно, перемены, еще до ввода в страну советского контингента, Рахманкул увел подчиненные ему 250 юрт в новую эмиграцию.
Двухнедельный изнурительный путь по кручам Гиндукуша и Каракорума закончился в августе 1978 года в Гилгите и Хунзе - с предварительного согласия пакистанского правительства, но на оккупированной индийской территории Северного Кашмира. Покоя здесь быть не могло ввиду индо-пакистанских противоречий по этому району. Да и по другим причинам: подавляющее большинство кочевников потеряли в пути все свои стада и лишились средств к существованию.
Акклиматизация, малярия и другие болезни, а также голод унесли в первое же лето сотни жизней. И без того тяжкое положение усугублялось разного рода стычками с местными жителями, давно уже разделившими между собой все возможные жизненные ниши. Весной 1980 года неграмотному Рахманкулу, уже чувствовавшему недовольство соотечественников, случайно попала в руки ярко иллюстрированная книга с изображением ландшафтов Аляски. Появилась идея.
Первым шагом по ее реализации стал визит Рахманкул-хана в американское посольство в Исламабаде с просьбой о выдаче иммиграционных виз для киргизских беженцев с последующим переселением на Аляску для разведения там рогатого скота. После долгих проволочек американское правительство ответило отказом. Не сразу, но все-таки отозвалась этнически родственная Турция. В марте 1982 года турецкое правительство приняло решение о расселении памирских киргизов в Восточной Анатолии, в окрестностях озера Ван.
Однако четыре года пакистанской эмиграции породили трещину в отношениях подчинения между Рахманкулом и некоторыми киргизами. Через некоторое время другой лидер - Абдуррашид-хан, сохранивший контакты с российскими военными на Памире, и примерно 50 семей отказались следовать за Рахманкулом в Турцию. Они предпочли Памир и впоследствии взяли под свой контроль все пастбища на Малом Памире. Условия жизни здесь суровые. Любые товары вымениваются, нет ни поликлиники, ни школы. Деньги неизвестны.
Все кочевники неграмотны. Ежегодных караванов в Кабул для продажи откормленных кочевниками овец не было уже целую вечность, и теперь они в них сильно нуждаются, ну а товары из столицы также больше не попадают сюда. Зато процветает другая торговля. Опиумные дилеры из таджикского Бадахшана приносят свой товар на пастбища Малого Памира, где меняют его на овец. Местные командиры из антиталибского движения требуют оплаты за использование дорог.
Мятежники из "Талибана" финансируют свою борьбу доходами от торговли опиумом, твердят о своей неизбежной победе и обещают установить фундаменталистское исламское государство. Киргизское меньшинство в Афганистане видело, как очень многие из участников этого движения вовлекались в употребление наркотиков в течение нескольких лет. По оценкам международных экспертов, около 90% киргизских кочевников, начиная с 10-12 лет, употребляют опиум.
Когда группа Рахманкула эмигрировала в Турцию в 1982 году, в одном из западных докладов это назвали "последним путешествием киргизов". Увы, сыновья Рахманкула, умершего в 1990 году, стремятся к переселению на историческую родину. Внуки его уже учатся в Бишкеке. Былой оппонент Рахманкула - Абдуррашид-хан, делает попытки подобного же рода, и небезуспешно. Весной 2000 года в афганском Бадахшане побывали представители киргизского государственного агентства по демографии и миграции.
Итог этой ознакомительной поездки: официальный Бишкек готовит практические меры по переселению в Киргизию из афганского Бадахшана около двух тысяч этнических киргизов - соответствующую просьбу направили в адрес правительства Киргизии старейшины киргизской диаспоры в Афганистане. Правительство Киргизии ведет переговоры с рядом международных организаций о финансовом содействии возвращению афганских киргизов на историческую родину. Киргизских кочевников предполагается переселить в район Сары-Таша в Киргизии. Что это означает?
Это значит, что и в этом регионе начинает утверждаться общая для всех стран мира тенденция, согласно которой районы производства и транзита наркотиков совпадают с зонами конфликтов низкой и средней интенсивности, при этом, естественно, производители наркотиков оказываются заинтересоваными в сохранении состояния нестабильности.
Фактор наркобизнеса усугубляется военно-политической нестабильностью, в результате чего складывается своеобразный замкнутый круг, где причины и следствия меняются местами: война вызывает падение уровня жизни и происходит превращение наркобизнеса в источник существования. В свою очередь, получение прибылей от наркобизнеса дает деньги на закупки оружия и поддержание нестабильности.
Небольшая группа киргизов - по словам представителя душанбинского посольства Афганистана Амрилло-хана, не более 200 семей, - живет в районе Зебака. Это тоже в афганском Бадахшане, на стыке дорог, ведущих через перевал Дора в пакистанский Шах-Селим и из Талукана в Файзабад. Население Зебака и окрестностей не очень лояльно к правительству Бурхануддина Раббани: в августе 1998 года, во время наступления талибов на севере, зебакцы подняли над селом белый флаг движения "Талибан".
Подоспевшие моджахеды Ахмад Шаха Масуда успокоили страсти. Уже в 2000 году, опять-таки во время наступления талибов в северо-восточной части страны, со стороны Читрала через тот же перевал Дора талибами была предпринята попытка пройти в Зебак и с помощью местной "пятой колонны" выйти с тыла на Файзабад, ставший после падения Талукана временной столицей законного правительства. Так что у афганских руководителей есть основания быть не вполне довольными киргизским населением.
Тем не менее, к киргизам, живущим в Ваханском проходе, в правительстве Афганистана относятся хорошо. Худо-бедно, они прикрывают Бадахшан на восточном направлении. Понятно, что официальное афганское правительство от репатриационной идеи Бишкека отнюдь не в восторге. По неофициальным сведениям, киргизские кочевники на Памире склонны спорить с планами их вождя и отказываются менять нынешние земли на неизвестную для них историческую родину.
На Памире они, несмотря на нескончаемую войну, могут называть своими собственными пастбища Большого и Малого афганского Памира. В Киргизии они боятся неопределенности.
Племена пуштунов (патанов) проживают по обе стороны современной афгано-пакистанской границы. Большая часть зоны расселения восточных пуштунов, территория которых до 1947 года формально входила в состав Британской Индии, занята горами Гиндукушской системы. Этот труднодоступный горный массив можно преодолеть только в нескольких местах. Самым удобным путём из Афганистана в Индию является Хайберский проход. По Хайберу также проходит рубеж, разделяющий зону проживания восточных пуштунских племён на две части: северную (Дир, Сват, Читрал и часть Хазары) и южную (Тирах, Баджаур, Куррам, Вазиристан и Какаристан).
Перед Второй мировой войной численность 47 крупных племён патанов Британской Индии составляла более 5 млн. человек. Самыми многочисленными и хорошо вооружёнными были племена афридиев, оракзаев, момандов, вазиров, масудов, шинвари и сулейман-хель. Отношения между ними были очень сложными и часто враждебными, но в минуту опасности они всегда вместе выступали против Англии. Как это происходило, наиболее точно описал британский генерал Джордж Мак-Мунн: "Масуды связаны с вазирами, вазиры с займухтами, займухты с оракзаями, оракзаи с африди, африди с момандами, моманды с племенами Баджаура, Баджаур с Диром, Дир со Сватом, Сват с Бунером, племена Бунера с населением долины Инда, а те с племенами Черных гор".
В связи с этим в английских документах, перед началом Второй мировой войны, чаще всего приводилась общая цифра ополчений (лашкаров) пограничных племён Северо-Западной Индии: 472 232 бойца, на вооружении которых были многозарядные винтовками, пулемёты и даже пушки. Британским властям в Индии всегда приходилось считаться с военной мощью пуштунов.
Три фактора обеспечивали сплоченность пуштунов перед лицом внешнего врага:
1. общий этнос,
2. традиционный кодекс чести (пуштунвали) и
3. ислам.
Первый из них, кроме общего языка (пушту) и культуры, включает в себя ещё и осознание того, что все они происходят от легендарного прародителя Кайса Абдуррашида (Патана). Если, порой, в междоусобицах это родство и забывалось, то при отражении агрессии извне - рано или поздно кровнородственные связи восстанавливались.
Огромное значение в жизни восточных пуштунов играл свод обычаев "Пуштунвали", главными понятиями которого являлись нанг и бадал. Нанг (честь) и его защита являлись высшей ценностью в жизни каждого пуштуна. Точное определение сути принципа нанга дал российский исследователь И.Е.Катков: "Неписаные правила воинской доблести, устоявшиеся представления о долге и чести наряду с суровым осуждением любых проявлений малодушия, трусости, предательства составляют суть нанга". Любое посягательство на независимость, землю, имущество, агрессия против союзного племени, не говоря уже об убийстве одного из родственников, было нарушением нанга. Тогда вступал в силу закон бадала (воздаяния) - закон кровной мести, которая могла длиться веками. Принцип бадала распространялся и на отношения любого пуштунского племени с государственными органами власти.
Государство в глазах пуштунов было верховным ханом и даже иноземным племенем. Так, в феврале 1945 года афганский посол в Москве Султан Ахмад-хан, объясняя ситуацию на индо-афганской границе, заявил советскому послу в Кабуле И.Бакулину: "Абсолютное большинство населения этих племён представляют англичан, как одно из племён, которое нападает на них, убивает и они в свою очередь убивают англичан. Большинство из них даже не знает, что Англия есть большое государство..."
Традиционная система самоуправления пуштунского племени была призвана защищать честь и достоинство всех его членов. Все вопросы, затрагивающие интересы двух и более родов, всегда обсуждались на собрании племени (джирге). Решение принималось только при полном согласии всех собравшихся. Такая система исключала диктат любой внешней силы.
Огромным авторитетом в пуштунских племенах пользовалось мусульманское духовенство. У пуштунов существовала традиция объединяться во время "священной войны" (джихада) против англичан вокруг всеми почитаемого "святого человека" (пира, факира). Таким образом, ислам позволял горным племенам преодолевать вражду и объединяться для отпора захватчикам.
Основными занятиями восточных пуштунов являлись земледелие, кочевое скотоводство, торговля и ремёсла. Природные условия в зоне их проживания крайне неблагоприятны для сельского хозяйства. Редкие дожди и сорокаградусная жара летом в сочетании с малоплодородной почвой не позволяют собирать хорошие урожаи. Чтобы выжить в таких условиях, необходимо было иметь адское трудолюбие и огромное мужество. Каждое лето пуштуны откочёвывали со своими стадами в Афганистан. Для многих из них транзитная, в значительной мере контрабандная, торговля была важной статьей дохода. Хорошо были развиты у восточных пуштунов домашние ремёсла: вышивка тканей, изготовление ковров и т.д. .
Но самым доходным и необходимым промыслом было изготовление холодного и огнестрельного оружия. Он был распространен у всех горных племён, но только вазиры и хайберские афридии славились своими мастерами по производству многозарядных винтовок. С начала ХХ века вазиры даже стали отливать примитивные пушки.
Оружие часто помогало восточным пуштунам не только защитить свою независимость, но и выжить в трудное время. Когда урожай погибал или начинался мор скота, единственным способом спастись от голодной смерти было совершить налёт на богатые населённые пункты, расположенные в равнинах. Так как Правобережье Инда, в основном, населяли немусульмане, грабительские рейды против "неверных" поощрялись мусульманским духовенством, которое считало их одной из форм джихада.
Возникновение проблемы беженцев связаны с последствиями раздела Британских колониальных владений в Южной Азии на два независимых государства: Индийский союз и Пакистан. Деятельность экстремистских религиозно-общинных организаций - мусульманских, сикхских и индусских - привела к тому, что процедура раздела сопровождалась кровопролитными столкновениями и погромами, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей. Через индо-пакистанскую границу (уже летом и осенью 1947 года) хлынули массы беженцев.
К концу 1950 годов численность мусульман-беженцев из Индии составила в Пакистане 6,5 миллионов человек. Из Пакистана в Индию за это же время выехало 5,5 миллионов сикхов и индусов. Большая часть (80,1%) беженцев из Индии устремилась в Панджаб, где они, согласно официальной переписи населения, составили в начале 1951 году около 26% всех жителей. В южных районах Синда беженцы, согласно тем же данным составили 45,4% населения. Наплыв беженцев из Индии в южный Синд привел к возникновению проблемы "мухаджиров", осложненной напряженными отношениями, сложившимися между коренным населением (синдхами) и говорящими на урду (урдувала) переселенцами.
К началу 50-х годов беженцы составили значительную (иногда - подавляющую) часть населения крупнейших городов Пакистана:
Карачи - 55%,
Фейсалабада - 60%,
Саргодхи - 64%,
Лахора - 43%,
Мултана - 49%.
Вторая волна миграции связана с событиями 1971 года - отделением Восточного Пакистана и образованием независимой Народной Республики Бангладеш, когда в Пакистан, преимущественно в юго-восточные районы страны, переселились десятки тысяч говорящих на урду беженцев (так называемых "бихари").
Третья волна миграции, на этот раз из Афганистана, была вызвана гражданской войной в этой стране, вспыхнувшей в начале 1979 года и продолжающейся уже 20 лет.
По официальным пакистанским данным, уже в конце ноября 1979 года в Пакистане находилось 314,6 тысяч беженцев из Афганистана. Через год, в ноябре 1980 года, их численность выросла до 1.234,6 тысяч человек, а в конце 1981 года (данные Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев) она составила 2.059.010 человек.
Большая часть беженцев из Афганистана - 1.688.289 человек в конце 1981 года проживала в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП) и на протянувшейся вдоль афгано-пакистанской границы Территории племен, находившейся под управлением федеральных властей Пакистана. В провинции Белуджистан нашло убежище 369.642 беженца. И в Северных территориях (то есть, находящейся под контролем Пакистана части бывшего княжества Джамму и Кашмир) - 1.079 человек.
По заявлению министра внутренних дел Пакистана М.А.Харуна, с которым он выступил 14 апреля 1982 года, весной в стране находилось 2.638,9 тысячи беженцев из Афганистана. К началу 1983 года их численность, по официальным пакистанским данным, достигла трех миллионов человек.
Имеющиеся данные о численности, половой и возрастной структуре афганских беженцев (по состоянию на май 1981 года) показывают, что их общая численность составляла 2.057.931 человека. Из них мужчин (в возрасте старше 16 лет) было 26,6%; женщин - 27,7%, детей - 45,7%.
Лагеря, в которых были размещены афганские беженцы, находились в следующих округах (дистриктах) СЗПП: Читрал, Дир, Мардан, Пешавар, Кохат, Банну и Дера Исмаилхан, а также в политических агентствах территории племен: Хайбер, Куррам, Северный Вазиристан, Южный Вазиристан, Моманд (или Мохманд), Оракзай и Баджавур.
Следует отметить, что на территории политических агентств (большая часть которых была создана еще английскими колониальными властями в 1878-1896 гг.), не действует уголовное и гражданское право Пакистана; их жители не платят налогов, а свои внутренние дела решают на основе обычного права ("пуштун-вали"). В провинции Белуджистан лагеря для беженцев были созданы только в пограничных с Афганистаном округах Зхоб, Лоралай, Чагай и Кветга-Пишин.
По состоянию на середину 1985 года афганские беженцы размещались примерно в 350 (по другим данным, в 330) лагерях-деревнях, из которых:
- 280 (80 процентов) находились в Северо-Западной пограничной провинции (СЗПП),
- 60 (17 процентов) - в Белуджистане.
- 10 лагерей (около 3 процентов) - в Пенджабе.
Кроме того, до 250 тыссяч афганских мигрантов (из них официально зарегистрированных было лишь 18 тысяч человек) нашли убежище в различных местах провинции Синд (на юго-востоке Пакистана). Наибольшее число беженцев, осевших в СЗПП, было сосредоточено в Пешаваре, Курраме, Баджавуре, Северном Вазиристане и Мардане.
К примеру, в последнем и в прилегающих к нему районах, по данным на середину 1983 года, имелось шесть лагерей, в которых проживало до 325 тысяч беженцев. Пакистанские власти, чтобы избежать дальнейшей концентрации афганских беженцев в СЗПП, приступили в 1981-1982 годах к организации лагерей и в провинции Пенджаб (близ городов Миянвали и Иса-хейль). Под все указанные выше лагеря-деревни отводились земли, арендованные у местных землевладельцев или пуштунских
племен.
Несмотря на весь этот круговорот и смешение огромных масс людей, в этом пестром пространстве языков и обычаев обитают самые добрые и отзывчивые люди, сохранившие почти первозданную чистоту эдемского человека. Здесь обретается самое возвышенное состояние бытия, о котором невозможно и мечтать жителям низин.
Я просто открыл глаза в этой долине...
Наиболее популярная тема этнографического и фольклёрного туризма в районе Читрала - племя Калаш - [Kalasha (Kalashamon, Kalash), KLS]. Название кала'ша происходит от названия племени - Калаш. Численность 5 029 чел. (2 000 - WCD) в Пакистане. Народность Калаш распространена в местности Калаша-деш - в Нижнем Читрале. Язык бесписьменный. Наблюдается ряд различий между северной и южной группами диалектов - в основном, в историко-фонетическом характере языка.
Кафир Калаш - это языческое племя, поклоняющееся своим древним богам и известное за пределами долины своим жизнерадостным отношением к жизни.
А между тем калаши проповедуют вовсе не ислам, а политеизм (многобожие), то есть они - язычники. Если бы калаши представляли собой огромную и многочисленную диаспору с обособленной территорией и государственностью, то их существование вряд ли бы кого удивило, но калашей на сегодня сохранилось не более 5 тысяч человек - самая миниатюрная и загадочная этническая группа Азиатского региона.
Согласно одному из основных законов генетики, все люди, вне зависимости от национальности, пола или возраста, имеют одни и те же гены. Геном инуитов, басков, индусов и индейцев практически ничем не отличается от генома европейца или американца. Американским ученым удалось получить экспериментальные доказательства соответствия этого утверждения действительности. Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали геном 1000 человек 52-х различных национальностей. В отличие от более ранних работ, они определяли наличие в геноме участников исследования не 20-30, а 400 основных генетических маркеров.
Сравнив полученные результаты, ученые обнаружили, что степень гомологичности геномов представителей разных национальностей, проживающих на противоположных концах планеты, составляет 95-98%. Среди людей, проживающих в одном регионе (а исследователи условно разделили всех участников исследования по шести основным географическим регионам - жители Евразии, Южной Америки, Северной Америки, Африки, Восточной Азии и Океании), степень гомологии оказалась еще выше. Стоит отметить, что исследователи описали и два исключения из правила "генетического единообразия". Ими оказались члены двух полностью изолированных народностей - люди племени "калаш" (Читрал - Северный Пакистан) и африканские пигмеи...
По мнению этнографов, этот пастушеский народ полностью сохранил шаманистские традиции, к которым восходят и освященные церковью, но языческие по происхождению праздники европейцев, такие, как Иванов день, Масленица или День всех святых.
Еще больше поражают имена богов, которым поклоняются калаши. Богом богов и повелителем солнца они называют Аполлона. Богиней красоты и любви почитают Афродиту. Немое и восторженное благоговение у них вызывает Зевс, и т.д.
Откуда полудикое племя, члены которого никогда не спускались с гор, не умеют читать и писать, знают и поклоняются греческим богам? При этом их религиозные ритуалы поразительно схожи с эллинскими. К примеру, посредниками между верующими и богами являются оракулы, а в праздники калаши не скупятся на жертвоприношения и подаяния богам. Кстати, язык, на котором общаются соплеменники, напоминает древнегреческий.
Самой необъяснимой тайной племени калаш является их происхождение. Это загадка, над которой ломают головы этнографы всего мира. Однако сами горные язычники объясняют свое появление в Азии просто. Другое дело, что не так просто отделить истину от мифов. Калаши уверяют, что их народ образовался как единый анклав еще четыре тысячи лет назад, но не в горах Пакистана, а далеко за морями, там, где миром правили обитатели Олимпа. Но настал день, когда некоторая часть калашей отправилась в военный поход под предводительством легендарного Александра Македонского. Это случилось в 400 году до н.э. Уже в Азии Македонский оставил несколько заградительных отрядов калашей в местных населенных пунктах, строго-настрого наказав им дождаться его возвращения и беречь веру предков. Увы, Александр Великий так и не вернулся за верными бойцами, многие из которых отправились в поход вместе с семьями. И калаши были вынуждены осваиваться на новых территориях, ожидая своего повелителя, который то ли забыл о них, то ли умышленно оставил на новых землях в качестве первых поселенцев с далекой Эллады. Калаши и по сей день ждут Александра.
Что-то в этой легенде есть. Этнографы относят калашей к индо-арийской расе - это факт. Лица калашей - чисто европейские. Кожа значительно светлее, чем у пакистанцев и афганцев. А глаза - паспорт неверного иноземца. У калашей глаза голубые, серые, зеленые и очень редко карие. Но есть еще один штрих, который никак не вписывается в общую для этих мест культуру и быт. Калаши всегда изготавливали для себя и пользовались мебелью. Они едят за столом, сидя на стульях, - излишества, которые никогда не были присущи местным "аборигенам" и появились в Афганистане и Пакистане только с приходом англичан в ХVIII-ХIХ веках, но так и не прижились. А калаши испокон веков пользовались столами и стульями. Сами придумали? И таких вопросов много.
Итак, калаши выжили. Они сохранили свой язык, традиции, религию. Однако позднее в Азию пришел ислам, а с ним и беды народа калашей, которые никак не хотели поменять религию. Адаптироваться в Пакистане, проповедуя язычество, - предприятие безнадежное. Местные мусульманские общины настойчиво пытались заставить калашей принять ислам. И многие калаши вынуждены были подчиниться: либо жить, приняв новую религию, либо умереть.
В ХVIII-ХIХ веках исламисты вырезали калашей сотнями и тысячами. При таких условиях выжить и сохранить традиции предков, согласитесь, - проблематично. Тех, кто не подчинялся и хотя бы тайком отправлял языческие культы, власти в лучшем случае гнали с плодородных земель, загоняя в горы, а чаще - уничтожали. Сегодня последнее поселение калашей находится в горах на высоте 7000 метров - не лучшие условия для сельского хозяйства, разведения скота и жизни вообще!
Жестокий геноцид калашей продолжался вплоть до середины XIX века, пока крохотная территория, которую мусульмане называли Кафиристан (земля неверных), где обитали калаши, не попала под протекцию Великобритании. Это спасло их от полного истребления. Но и сейчас калаши находятся на грани исчезновения. Многие вынуждены ассимилироваться (через брак) с пакистанцами и афганцами, принимая ислам, - так легче выжить и получить работу, образование, должность.
Быт современных калашей можно назвать спартанским. Калаши живут общинами - легче выжить. Они ютятся в малюсеньких хибарках, которые строят из камня, дерева и глины в узких горных ущельях. Задней стеной дома калаши является плоскость скалы или горы. Так экономятся стройматериалы, а жилище становится более устойчивым, ведь долбить фундамент в горном грунте - сизифов труд. В потолке часто есть квадратное, обычног незастекленное, окно. Крыша нижнего дома (этажа) одновременно является полом или верандой дома другой семьи. Из всех удобств в хижине: стол, стулья, скамьи и глиняная посуда. Об электричестве и телевидении калаши знают лишь понаслышке. Лопата, мотыга и кайло - им понятнее и привычнее. Жизненные ресурсы они черпают в сельском хозяйстве. Калаши умудряются выращивать пшеницу и другие зерновые культуры на расчищенных от камня землях. Но главную роль в их жизнеобеспечении играет скот, в основном козы, которые дают потомкам эллинов молоко и молокопродукты, шерсть и мясо. Располагая таким скудным выбором, калаши умудряются не терять собственной гордости и не опускаться до попрошайничества и воровства. А ведь их жизнь - борьба за выживание. Они трудятся от зари до зари и не ропщут на судьбу. Их образ жизни и ее уклад мало изменились за две тысячи лет, но это никого не расстраивает.
У калашей есть священные места для танцев - Джештак. Оформлены в греческом стиле - колонны и росписи. Там происходят главные события в жизни калашей - поминки и священнодействия. Похороны превращаются у них в шумный праздник, сопровождаемый пиром и танцами, который продолжается несколько дней, и куда приходят сотни людей со всех деревень.
Большую роль в жизни калашей играли шаманы. Самый известный из них - Нанга дхар - мог проходить сквозь скалы и мгновенно появляться в других долинах. Он прожил более 500 лет и оказал существенное влияние на обычаи и верования этого народа. Но сейчас шаманы исчезли. Калаши вызывают живейший интерес у ученых всего мира. Им интересно все, что касается жизни, быта, культуры, языка и религии этого уникального народа.
Испанский этнограф Хосе Магранер приехал в Афганистан еще в начале 90-х. Его целью было изучение и поиск следов снежного человека, так называемого йети. Хосе многие месяцы провел в горах Афганистана и Пакистана в тщетных поисках "бигфута". Он отчаялся и расстроился, не найдя ни снежного человека, ни следов его пребывания. Однако совсем забыл о нем, когда встретил полудикое племя калашей.
- К своему стыду, признаюсь: ничего не знал об этом народе, - говорил Хосе.
Когда испанец узнал о языческих корнях религии, исповедуемой калашами, то решил остаться в племени для самого тщательного изучения истории и культуры "потомков Александра Македонского".
Магранеру удалось подружиться с членами племени до такой степени, что калаши приняли его в свои ряды как равного, посвятив в свою религию. Магранер добровольно и искренне изучал и даже исполнял религиозные обряды калашей, а также участвовал в тайных ритуалах.
Он хорошо освоил их язык и общался с калашами на их родной речи, чем заслужил их доверие и уважение. Он прожил бок о бок с калашами 12 лет. А летом 2002 года Магранер решил совершить еще одну научную экспедицию в горы, где местные жители якобы видели йети. С этой целью испанец нанял проводника-афганца, с которым отправился в путь, пообещав калашам вернуться в поселение через неделю. Однако ни через неделю, ни через две и даже три Магранер так и не появился.
Калаши переполошились и отправили на поиски своего друга группу мужчин, и те нашли ученого. Увы, нашли лишь его истерзанное животными и птицами тело. Об этом стало известно местной полиции, которая инициировала уголовное дело и следствие. Оказалось, что Магранер погиб не в результате несчастного случая (в горах всякое может случиться), а его убил слуга-афганец. Убил с тем, чтобы завладеть его имуществом.
Афганца-убийцу ищут. А испанского ученого калаши похоронили на своем кладбище, исполнив все полагающиеся погребальные ритуалы. Однако уже через неделю после похорон в горное селение калашей приехали родственники Магранера. Они хотели забрать тело несчастного Хосе, дабы похоронить его на родине - в Испании. Но им пришлось ретироваться и вернуться на Пиренеи с пустыми руками. Калаши категорически отказались производить эксгумацию: это противоречит религиозным канонам горцев. У родственников Магранера не возникло никаких сомнений, что калаши поступили так, потому что испанский ученый действительно наказал им (устно) в случае смерти похоронить его в горах Афгана по всем законам религии, которой поклоняются его новые братья.
Калаши хранят много загадок - их происхождение до конца так и не ясно. Некоторые исследователи склоняются к тому, что в долинах рядом с Читралом они появились, бежав из Афганистана от политики насильственной исламизации и захвата земель, проводимой афганским эмиром Абдуррахман-ханом в 1895-1896 годах.
Политику эту хан начал после того, как целая область на Гиндукуше, "Кафиристан" ("Страна неверных"), перешла к нему после проведения британцами границы (пресловутой "линии Дюранда") между тогдашней Индией и Афганистаном. Область была переименована в "Нуристан" ("Страна света"), а пытавшиеся сохранить свои обычаи племена бежали под английский протекторат.
Другие ученые считают, что калаши сами были захватчиками и оккупировали этот район где-то в глубине веков. Среди калашей распространена похожая версия - они считают, что пришли из далекой страны Циям, но где находилась эта страна, установить сейчас вряд ли удастся. Являются ли калаши потомками воинов армии Александра Македонского, также доподлинно неизвестно. Неоспоримо лишь то, что от окружающих их народов они явно отличаются. Пока весь мир сомневается в греческом происхождении калашей, сами греки им активно помогают. Новая, построенная школа и больница - подарок от греческого народа.
"Откуда я появился, не знаю. Сколько мне лет, тоже не знаю. Я просто открыл глаза в этой долине" - это ответ одного из старейшин о происхождении своего племени калаш.
Рай, покоящийся в тени мечей
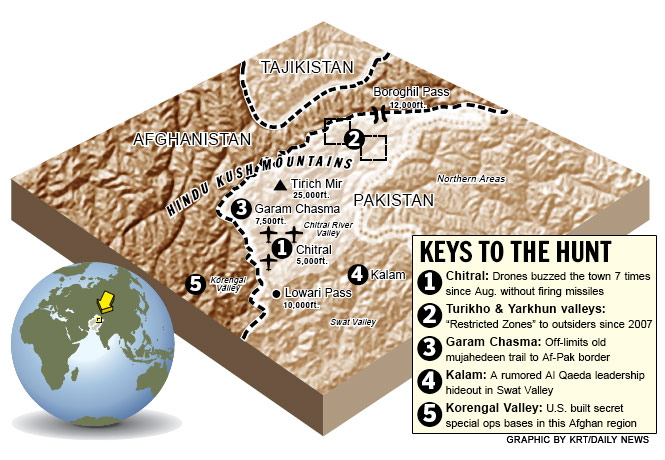
Самолеты в Читрал в принципе летают, но гарантировать прибытие на место, действительно, трудно. Оптимальный вариант - это автомобильный транспорт. Ехать - километров 300. Это, конечно, недалеко, но очень долго - часов 10-12 и даже более.
После того как пересечете реку Кабул, первую остановку сделайте на кладбище, в городе Чарсадда. По утверждению местных жителей, это - самое большое кладбище в Азии. Оно действительно огромно - простирается до самого горизонта, а хоронить умерших здесь начали еще до нашей эры. Место это исторически очень важное и даже священное. Здесь находилась древняя столица государства Гандхара - Пушкалавати (на санскрите - "цветок лотоса").
Гандхара, знаменитая своими выдающимися произведениями искусства и философскими трудами, - одно из важнейших мест буддизма. Отсюда буддизм распространялся во многие страны, в том числе и в Китай. В 327 году до н. э. Александр Македонский после 30-дневной осады лично принял сдачу города. Сегодня здесь уже ничто не напоминает о том времени, разве что лотосы по-прежнему растут в его окрестностях. Впереди вас ждет перевал Малаканд. Через него дорога идет в долину реки Сват, и дальше - в северные районы Пакистана.
Далее подъем через перевал Малаканд приводет вас в пункт назначения - долину Сват. Всемирную известность Малаканд получил в конце XIX века, когда британцы, дабы иметь свободный проход в Читрал, на тот момент уже являвшийся их подконтрольной территорией, оккупировали перевал. Медленно проезжая через долину, вы сможете посмотреть Churchil Picket - английский форт, носящий имя Уинстона Черчилля.
Будучи 22-летним младшим лейтенантом, Черчилль служил здесь в 1897 году, когда форт подвергся атаке пуштунских племен. Его статьи, направляемые в "Дэйли Телеграф" (По 5 фунтов за колонку, что было очень немало для молодого человека) и восхваляющие доблестную британскую армию, принесли будущему премьер-министру первую известность и веру в себя. Потом на основе этих статей сэр Уинстон Черчилль написал свою первую книгу "История Малакандской полевой армии". Война была ужасной. Местные племена объявили англичанам священную войну - джихад. Невзирая на бравый тон газетных передовиц, в письмах к бабушке, герцогине Мальборо, Черчилль писал совсем иначе. "Я задаю себе вопрос - имеют ли британцы хоть малейшее представление о том, какую войну мы здесь ведем... Забыто само слово "пощада". Повстанцы пытают раненых, уродуют трупы убитых солдат. Наши войска также не щадят никого, кто попадает им в руки" - писал Черчилль повествуя о том, как пехотинцы сикхского полка заживо сожгли повстанца в печи для мусора. Во время этой войны британские войска использовали жестокое оружие - разрывные пули дум-дум, которые впоследствии были запрещены Гаагской конвенцией 1899 года.
В середине ноября 1899 года, через два года после боев на Малаканском перевале, в Южной Африке произошло событие, оставшееся в то время практически незамеченным в Англии. Отряд буров, которым командовал Луис Бота, близ железнодорожной станции Чивли (в районе Ледисмита) взял в плен корреспондента британской газеты "Морнинг пост", наблюдавшего за ходом военных действий.
Через несколько недель молодому англичанину удалось бежать из Претории и с приключениями добраться до британских войск. Вернувшийся в середине 1900 года в Великобританию корреспондент был встречен, как национальный герой и вскоре избран... в палату общин английского парламента, с чего и началась его фантастическая политическая карьера. Звали корреспондента Уинстон Черчилль.
Изрядно попетляв по горному серпантину Малакандского перевала, вы спуститесь в долину реки Сват, место опять же крайне важное и не столь уж хорошо изученное. По одной из версий, именно сюда пришли первые арии во II тысячелетии до н. э. Река Сват (на санскрите - "сад") упоминается еще в Ригведе, сборнике религиозных гимнов древних индийцев. Эта долина перенасыщена историей - тут и Александр Македонский, проведший здесь четыре битвы, и расцвет буддизма (со II века до н. э. по IX н. э., когда в этих местах насчитывалось 1 400 буддийских монастырей), и борьба Великих Моголов, а много позже - и англичан с местными племенами.
Спустившись с перевала в долину реки Пайджкора, у города Тимаргарха, вы попадете в луковое царство. Лук будет везде. Его будут сортировать прямо вдоль дороги, укладыватьв мешки, которые, свисая с машин, почему не падают, что будет вам совершенно непонятно. Стоит здесь лук очень дешево - около 2 долларов за мешок в 50-60 килограммов. Второй культурой в той области является табак.
Проехав горы лука и миновав город Дир, вы приблизитесь к самому сложному участку пути - перевалу Лаварай (Lowari Pass). В Дир асфальтовая дорога заканчивается, и далее вы по грунтовой дороге поднимаетесь на перевал Ловарай (высота 3200 м) - ворота в долину Читрал. С высоты перевала открывается захватывающий вид на горные хребты Гималаи и Хиндокуш.
Этот первал очень высокий - 3 122 метра, и в жизни обитателей Читрала он играет важнейшую роль. Это единственное надежное связующее звено с внешним миром, при этом практически восемь месяцев в году (с октября - ноября по май) перевал этот бывает закрыт. По дороге вы проедите вход в недостроенный тоннель, ведущий в Читрал. Этот тоннель является самой главной надеждой читральцев. Благодаря ему, они могли бы получить возможность выезжать из Читрала круглый год.
Жизнь читральцев нелегка. Хотя в зимнее время года существует воздушное сообщение с Пешаваром, на деле же самолеты могут не летать месяцами, и в этом случае население отрезано от многих благ цивилизации, главное из которых - медицина. Таким образом, Лаварайский проход для читральцев - это в буквальном смысле дорога жизни. Долгожданный тоннель начали сооружать еще 30 лет назад, но достроить не успели, а политические и экономические события последних десятилетий не позволяют продолжить начатое.
После Лаварайского прохода спуск с перевала покажется интереснее подъема - чтобы достигнуть дна долины, дорога-серпантин здесь делает 96 поворотов. Еще каких-то часа два, и вы, окруженные сухим и скалистым ландшафтом, въезжаете в Читрал.
Город стоит на берегу живописной и очень бурной реки. Вода в ней серого цвета, и когда реку освещает солнце, кажется, что это не вода, а жидкие камни несутся куда-то с высоких гор Гиндукуша. Горы, кстати, действительно высокие, местные жители расскажут вам, что у шеститысячников даже нет названий - имена имеют только те горы, которые выше 7 000 метров. Кроме того, в Пакистане находятся пять восьмитысячников (включая вторую по величине гору в мире К-2).
Как известно, в Пакистане наиболее престижным делом считается служба в армии, одно же из наиболее уважаемых подразделений этой армии - читральские разведчики. Читральцы знамениты тем, что они одни из лучших в мире горных стрелков. Для этого они тренируются в любую погоду, а также беспрерывно занимаются спортом (основной и священный вид спорта для них поло - игра в мяч с клюшками на лошадях).
В городе расположен старинный форт, принадлежавший еще читральским королям. Им и по сей день владеют их потомки, как частной собственностью. Нынешние его хозяева вынашивают идею реконструкции форта и превращения его в музей, но до ее реализации пока еще далеко. Есть здесь и великолепная старинная мечеть. Основное спортивное сооружение города - стадион для поло, здесь же проводят и футбольные состязания.
Климат в Читрале кардинально отличается от пешаварского. В горах дышится несравнимо легче, да и воздух, несмотря на более чем 30-градусную жару, прохладней. Читральцы расскажут вам про свою трудную жизнь зимой: про огромные очереди на самолеты (иногда рейса ждут до 1 тысячи человек), про то, что лекарства найти нелегко, что всего три года назад в городе не было нормальной связи. Кстати, в горах есть еще один проход, через Афганистан, но сейчас он закрыт по понятным причинам.
Здесь в Читрале, в конце лета 1939 года, майор Уайт встретил, уже знаменитого к этому времени, шерпа Тенцинг Норгея. Шотландец по национальности, майор Уайт служил в одном из наиболее известных полков индийской армии - "Читральские разведчики". Майор Уайт предложил знаменитому покорителю высочайшей вершины мира, Тигру снегов, остаться поработать с ним. Несколько месяцев Тенцинг Норгей работал его личным ординарцем и помощником, затем перешел в офицерскую столовую полка. Полк постоянно перемещался по Северо-Западной Пограничной провинции, и Тенцинг Норгей следовал за ним. Побывав в зимой в Северном Кашмире, майор Уайт научил Тенцинг Норгея кататься на лыжах, что очень понравилось покорителю Чомолунгмы. Здесь, в Читрале, Тенцинг Норгей получил письмо, в котором официально сообщалось о присвоении ему звания Тигра за работу на Эвересте в 1938 году. Медаль он получил только в 1945 году - когда вернулся в Дарджилинг.
В своей автобиографической кгиге "Тенцинг Норгей. Тигр снегов" знаменитый шерп, вспоминает о своем прибывании в Читрале в период 1939-1945 годов. Мы думаем, что данный отрывок поможет понять и почувствовать атмосферу, царившую в Чатрале в период второй мировой войны: "...Много говорили также о стремлении Индии к независимости, и что будет новое государство Пакистан. Большинство жителей Читрала мусульмане, поэтому он вошел впоследствии в Пакистан. А так как я не индуист, то у меня не было никаких неприятных столкновений с читральцами. В ту пору я очень мало знал о политике и подобных вещах. Я мечтал только о том, чтобы жить тихо, спокойно и делать свое дело как можно лучше.
Тогда это было нетрудно. Но я хотел бы, чтобы люди дали мне такую возможность и после взятия Эвереста! Потом уж я сообразил, что мог бы неплохо подзаработать в Читрале. В этой части страны много драгоценных камней, и они попадались нам на каждом шагу, только я не знал тогда, что они так дорого стоят. Не знали этого и местные жители - они отдавали свои находки в обмен за несколько пачек чая или другие продукты. Я привез с собой в Дарджилинг несколько таких камней. Увидев их, местные купцы пришли в страшное возбуждение и сказали, что камни драгоценные.Друзья уговаривали меня вернуться в Читрал, добыть побольше камней и разбогатеть на их продаже. Однако я отказался. Я ничего не имел против того, чтобы заработать деньги, но чувствовал, что торговец из меня не выйдет.
Наряду с майором Уайтом у меня появился хороший друг в лице врача Н. Д. Джекоба; он заведовал всеми гражданскими лечебными учреждениями в области Читрал. Это был очень занятой и важный человек, но совершенно свободный от той чопорности, которая присуща многим англичанам. Джекоб всегда относился очень приветливо ко мне и моей семье и лечил нас так, словно я махараджа или генерал. Я очень обрадовался, встретив его, много лет спустя, в Лондоне, и был глубоко тронут, когда узнал, что он проехал восемьсот километров только для того, чтобы повидать меня.
Однако наше общение с доктором Джекобом было не только приятного свойства. Попав в Читрал, моя жена Дава Пхути стала часто болеть, - видно, климат не подходил. Как доктор ни старался, ей становилось все хуже. В 1944 году она скончалась. Ее смерть была страшным ударом для меня и для наших дочерей Пем-Пем и Нимы. Старшей исполнилось всего пять лет, младшей - четыре, и вот они остались без присмотра. Я не знал, что и делать. Одно время я нанял им айя, но с ней у нас что-то не ладилось. И вот в начало 1945 года я решил, что нам надо возвращаться в Дарджилинг.
За эти годы мне удалось скопить около полутора тысяч рупий, так что денежный вопрос меня не беспокоил. Однако война еще продолжалась, и проехать оказалось трудно. Сначала я раздобыл лошадь с вьючными сумами. Посадил по одной дочери в каждую суму и провел лошадь на поводу через перевал из Читрала до города Дир. В Дире железная дорога, но и желающих ехать было множество. Я никак не мог попасть в поезд. Неудивительно, что с двумя малышами на руках я пришел в отчаяние. Наконец меня осенило. Майор Уайт отдал мне старый мундир с офицерскими погонами - в этом мундире я выглядел настоящим начальником. Я отправился снова на станцию, дождался воинского состава и прошел прямо в купе первого класса. Никто не сказал мне ни слова, поезд, вскоре, тронулся. Так я и проехал почти через всю Индию со своими девочками, не заплатив ни одной анна...
...Зимой 1948 года мой старый друг по Бандар Пунчу мистер Гибсон из Дун Скул сообщил, что порекомендовал меня для одной работы Отделу экспериментальных исследований индийской армии. А вслед за тем мне написали и из отдела. В итоге я в том и следующем году ездил инструктором в Северо-Западную Индию и обучал солдат технике восхождений. Помимо самих восхождений речь шла о разбивке лагеря, приготовлении пищи, применении снаряжения и уходе за ним - короче, обо всем, что касается жизни под открытым небом в диком краю. Работа эта пришлась мне по душе. В первый год занятия происходили в провинции Кулу, на следующий - в Кашмире, причем база находилась в курортном городке Гульмарг. А поскольку в обоих случаях мы занимались зимой и на больших высотах, мне представился случай впервые после Читрала стать на лыжи. В память о занятиях с солдатами у меня осталось официальное свидетельство. А лыжами я занимался ради собственного удовольствия. От этих занятий остались лишь красноречивые вмятины на снегу...".
"Вмятины на снегу" - так можно было бы назвать события тех лет, так благополучно пережитые Тенцинг Норгеем, в Читрале, если бы не их "судьбоносность":
- 3 сентября 1939 года вице-король Индии лорд Линлитгоу (апрель 1936 - октябрь 1943 года) с "удовлетворением", как говорилось в его заявлении, сообщил индийскому народу, что "между Его Величеством и Германией началась война".
- Иную позицию заняла самая влиятельная в то время политическая организация в Индии - Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Он отказался безоговорочно поддержать военные усилия Англии и выдвинул ряд требований, главным из которых являлось требование предоставления Индии независимости и создания ответственного национального правительства.
- 8 сентября 1939 года для обсуждения сложившейся ситуации в Вардхе собрался Рабочий комитет ИНК.
- 14 сентября 1939 года была обнародована резолюция по вопросу о войне, проект которой был подготовлен Джавахарлалом Неру. Таким образом, в начале Второй мировой войны руководители Конгресса потребовали от английского правительства, во-первых, ясно определить цели войны и, во-вторых, заявить, намерено ли оно предоставить Индии независимость.
- 17 октября 1939 года лорд Линлитгоу опубликовал так называемую "Белую книгу" о положении в Индии. В ней, объявлялось о намерении правительства решать судьбу Индии после победы над военными противниками Великобритании в рамках существующей конституции. Этот акт английского правительства показал лидерам ИНК, что правящие круги Британии без нажима не пойдут ни на какие принципиальные уступки.
- В ноябре 1939 года все конгрессистские правительства в восьми провинциях подали в отставку.
- 10 января 1940 года в бомбейском Восточном клубе состоялось выступление вице-короля об английской политике по отношению к Индии. . В нем указывалось, что Англия готова предоставить Индии после войны статус доминиона, с тем, однако, чтобы законные права и требования меньшинств и индийских князей были гарантированы. Кроме того, Англия будет считать себя ответственной за оборону Индии в течение 30 лет после предоставления ей прав доминиона.
- В апреле 1940 года состоялась сессия ИНК в деревне Рамгарх.
- В апреле 1940 года, почти одновременно с сессией ИНК в Рамгархе, прошла сессия Мусульманской лиги в Лахоре, где была принята резолюция, известная под названием "пакистанской". В качестве условия поддержки Англии в войне Лига выдвинула требование о создании Пакистана - мусульманского государства. Это являлось свидетельством обострения индусско-мусульманских отношений, что было на руку англичанам.
- Итак, в самом начале войны не удалось достигнуть договоренности между колонией и метрополией.
- В июле 1940 года в городе Пуна собралось Бюро исполкома Конгресса, где было выработано "Пунское предложение" английскому правительству. В нем заявлялось, что если Англия даст гарантии предоставления Индии независимости сразу же после окончания войны, то представители Конгресса готовы войти во временное национальное правительство и вернуться на свои министерские посты в провинциях, чтобы принять участие в эффективной обороне Индии от возможной агрессии против нее со стороны держав "оси".
- 8 августа 1940 года был опубликован ответ англичан на требования Конгресса. Этот ответ известен под названием "августовское предложение". Таким образом, английский кабинет министров отказался от создания национального правительства и от обнародования декларации о предоставлении Индии независимости сразу же после окончания войны.
- 22 августа 1940 года обсуждалось на заседании Исполкома Национального конгресса "Августовское предложение". Как протест против отказа признать "военным кабинетом" исторические права Индии, в руки Ганди передавалось руководство "индивидуальной сатьяграхой".
- К маю 1941 года власти арестовали, по разным данным, 20-25 тысяч конгрессистов. Руководители конгресса были брошены за решетку. Конгресс был обезглавлен.
- 25 февраля 1942 года в Лондоне была образована правительственная комиссия во главе с К. Эттли по выработке рекомендаций в области индийской проблемы.
- 8 марта 1942 года японцы взяли Рангун. Дорога в Индию была открыта. Над английскими армиями в Южной Азии нависла угроза поражения.
- 11 марта 1942 года, выступая в палате общин, У. Черчилль заявил о том, что в Индию направляется миссия "военного кабинета". Премьер подчеркнул, что комиссией К. Эттли был выработан проект конституционного переустройства, но он не будет предан публичному оглашению до обсуждения с индийскими лидерами. Завершая выступление, Черчилль представил заседавшим главу готовящейся миссии. Это был С. Криппс. Отныне задуманное в Лондоне, его провал или успех - все связывалось с именем этого человека.
- 23 марта 1942 года миссия С. Криппса прибыла в Дели. Проект декларации, привезенной миссией для обсуждения с индийскими лидерами, не шел дальше "августовского предложения" 1940 года, а лишь повторял его пункты.
- 11 апреля 1942 года в своей резолюции рабочий комитет конгресса отверг предложения миссии "военного кабинета".
- Мусульманская лига также отказалась принять проект декларации, т.к. он только признавал возможность создания Пакистана, но не предусматривал его фактического создания.
- Английские авторы считают виновником неудачи переговоров Мохандаса Карамчанда Ганди, отвергнувшего проект.
- Индийские авторы обвиняют британский империализм, не пожелавший расстаться с политической властью в Индии.
- Индийский Национальный Конгресс, самая многочисленная партия Британской Индии.
- Мусульманская лига - вторая по величине партия в стране в этот период.
Руководство Мусульманской лиги с начала второй мировой войны в своей деятельности использовало следующую логическую цепочку:
- создание сильной политической организации, т.е. преобразование самой Лиги,
- поддержка мусульман Индии,
- создание Пакистана.
Но в результате получилась неразрывная обратная связь - выдвижение идеи создания независимого мусульманского государства привело к превращению этой партии в мощную организацию, пользующуюся широкой поддержкой мусульманских масс. К моменту освобождения Индии от колониальной зависимости Мусульманская лига выступила как массовое религиозно-политическое движение индийских мусульман за создание собственного независимого государства.
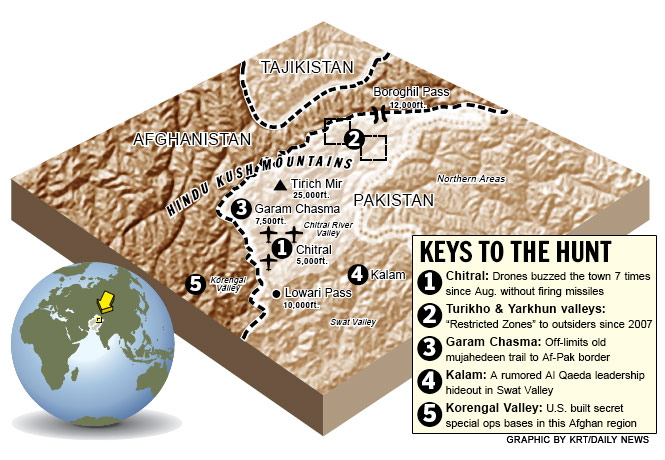
Люди горных крепостей
На подъезде к Читралу, со стороны Лаварайского прохода, до сих пор стоят несколько бывших английских, а ныне пакистанских фортов. На одном из них, большими буквами, еще год назад было написано - "Мы хотим умереть больше, чем вы хотите жить". Эта фраза напоминает о временах первых шагов ислама по земле - о шиитской секте исмаилитов.
Чтобы понять причины, породившие шиитскую секту исмаилитов, условия в которой она создавалась, как можно глубже разобраться в особенностях её внутреннего уклада и процессах, протекавших внутри секты ассасинов со дня её основания, необходимо совершить краткий экскурс к истокам становления ислама.
Здесь нам хотелось бы подробно рассказать о том, как после смерти пророка Мухаммеда, когда поднялся вопрос о том, кто станет главой мусульманской общины, ислам претерпел существенный раскол на два враждующих лагеря: суннитов, приверженцев ортодоксального направления ислама и шиитов, которых поначалу называли протестантами исламского мира. Мы хотели бы раскрыть суть этих противоречий.
Суннизм - в отличие от шиизма - не признает возможности посредничества между Богом и людьми после смерти Мухаммада, отрицает идею об особом праве Али и его потомков на имамат, на руководство общиной.
Шииты же выступали за приемственность власти прямыми потомками Мухаммеда, то есть прямым потомкам Али, двоюродного брата пророка, женатого на Фатиме, самой любимой дочери Мухаммеда. Близкое родство с пророком Мухаммедом делало его потомков единственно достойными правителями исламского государства. Отсюда пошло название шиитов - "ши'ат Али" или "партия Али".
Нам также хотелось бы подробно рассказать о том, как, подвергаясь гонениям со стороны суннитского правящего большинства, шииты были вынуждены находиться в подполье.
Шииты по своему определению были имамитами, считавшими что рано или поздно мир возглавит прямой потомок четвёртого халифа Али. Главное направление в шиизме основывалось на вере в то, что в качестве воскресшего имама выступит двенадцатый имам, Мухаммед абуль Касым, появившийся в Багдаде в IX веке и исчезнувший в двенадцатилетнем возрасте. Большая часть шиитов свято верила в то, что именно Мухаммед абуль Касым является тем самым "скрытым имамом", которому в будущем предстоит вернуться в мир и открыться в виде мессия-махди. Последователи двенадцатого имама впоследствии стали называться "двунадесятниками". К этому направлению шиизма относятся современные шииты.
Рассказывая об этом, мы не смогли бы обойти тот факт, что в 765 году Джафар Садык, шестой шиитский имам, лишил своего старшего сына Исмаила права законного наследования имамата. Формальной причиной этого решения стало чрезмерное увлечение старшего сына алкоголем, запрещённым законами шариата. Однако истинная причина, по которой право наследования имамата было передано младшему сыну, заключалось в том, что Исмаил занимал крайне агрессивную позицию в отношении суннитских халифов, что могло нарушить сложившееся стратегическое равновесие между двумя религиозными концессиями, выгодное как шиитам, так и суннитам. К тому же, вокруг Исмаила стало сплачиваться антифеодальное движение, развернувшееся на фоне резкого ухудшения положения простых шиитов. Низшие и средние слои населения связывали с приходом к власти Исмаила надежды на существенные перемены в социально политической жизни шиитских общин. Смерть Исмаила не остановила развернувшегося движения его приверженцев. Они объявили Исмаила седьмым "скрытым имамом", который в нужный момент объявится мессией-махди и, по сути, после него не стоит ожидать появления новых имамов. Его приверженцы утверждали, что Исмаил не умер, а по воле Аллаха перешёл в невидимое, скрытое от простых смертных состояние "гайба". Среди приверженцев Исмаила были и такие, которые утверждали, что Исмаил и на самом деле умер, поэтому седьмым имамом следует объявить его сына Мухаммеда. Именно с этой причиной раскола в самом шиитском движении связано возникновение секты исмаилитов. Однако в остальном исламском мире, включая шиитов, исмаилитов считали опаснейшими еретиками и при любом удобном случае жестоко преследовали.
В I четверти XI века от исмаилитов откололась секта друзов. После 1078 фатимидские исмаилиты раскололись на низаритов и мусталитов (по имени Низара и Мустали - двух сыновей фатимидского халифа Мустансира, правившего в 1036-94). Примерно в этот исторический период из среды воинствующих исмаилитов выделились ещё более радикальные и непримиримые низариты. Фатимитский халиф Египта Мустансир лишил своего старшего сына Низара права наследования престола в пользу его младшего брата Мустали. Для того чтобы избежать внутриусобной борьбы за власть, по приказу халифа его старший сын Низар был помещён в тюрьму и в скором времени казнён, что привело к крупным волнениям внутри Фатимитского халифата. Смерть Низара не помешала тому, что его имя стало символом открытой оппозиции. В ответ власти были вынуждены применять жестокие репрессии в отношении низаритов. Так в X веке после взятия города Рей, по приказу Махмуда Газанвийского была устроена настоящая кровавая резня. Низаритов и иных еретиков забивали камнями, распинали на стенах города, вешали у порогов собственных домов. В один день тысячи исмаилитов-низаритов нашли свою смерть. Оставшиеся в живых были закованы в цепи и проданы в рабство. Жестокие преследования исмаилитов-низаритов привели к развёртыванию широкомасштабной волны сопротивления. Перейдя на нелегальное положение, исмаилиты-низариты ответили террором на террор. Так родилась секта ассасинов - тайная религиозная шиитская секта исмаилитов-низаритов. Саббахиты, или "люди горных крепостей", как часто называли ассасинов.

Империя ассасинов.

Здесь нам следовало бы окунуться в мир легенд и мифов о Хасан ибн-Саббахе - "старце горы", захватившем в 1090 году неприступную крепость, возведённую на высокой скале Аламут, скрытой среди горных хребтов на берегу Каспийского моря. Хасан ибн-Саббах создал могущественное исмаилитское государство Аламут, просуществовавшее почти два века с 1090 по 1256 год. Фактическое отсутствие разницы между низшими и высшими слоями общества, превратило государство исмаилитов-низаритов в своего рода "коммуну", с той лишь разницей, что управление этой "коммуной" принадлежало не общему совету вольных тружеников, а безгранично властвующему духовному лидеру-вождю.
Сам Хасан ибн-Саббах подавал своим приближённым достойный пример, до конца своих дней ведя чрезвычайно суровый, аскетический образ жизни. В своих решениях он был последователен и, если того требовало, бессердечно жесток. Он приказал казнить одного из своих сыновей лишь по подозрению в нарушении установленного им закона.
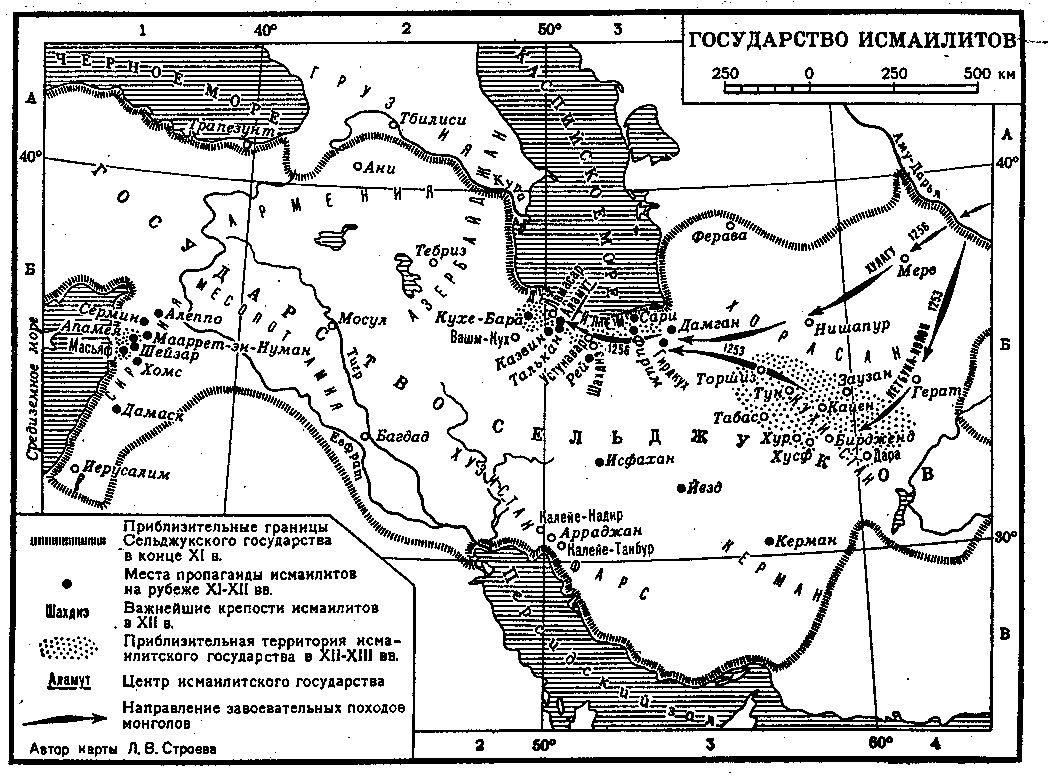
В своей штаб-квартире в горной крепости Аламут Хасан ибн-Саббах создал настоящую школу по подготовке разведчиков и диверсантов. Ассасины смоги создать систему фортификаций, которая не имела себе равных, а концепция обороны вообще на много веков опередила свою эпоху. Чтобы выжить, исмаилиты-низариты создали самую страшную по тем временам спецслужбу.

Старец горы объявил себя, чуть ли, не пророком. Для ассасинов он был ставленником Аллаха на земле, глашатаем его священной воли. Хасан ибн-Саббах внушал ассасинам, что они могут ещё раз вернуться в райские сады, сразу, минуя чистилище, лишь при одном условии: приняв смерть, но только по его приказу. Он не переставал повторять изречение в духе пророка Мухаммеда: "Рай покоится в тени мечей". Смерть за исламскую идею - прямой путь в рай. Таким образом, ассасины не только не боялись смерти, но страстно её желали, ассоциируя её с вратами рая.

Один из европейских послов, после посещения Аламута - ставки Старца горы, вспоминал: "Хасан обладал прямо таки мистической властью над своими подданными. Желая продемонстрировать их фанатичную преданность, Хасан сделал едва заметный взмах рукой и, несколько стражников, стоявших на крепостных стенах, по его приказу незамедлительно сбросились в глубокое ущелье..."

Слухи о Старце горы очень быстро распространились далеко за пределы исламского мира. Многие из европейских правителей платили дань Старцу Горы, желая избежать его гнева. Хасан ибн-Саббах рассылал по всему средневековому миру своих убийц, никогда не покидая, впрочем, как и его последователи, своего горного убежища. В Европе предводителей ассасинов в суеверном страхе называли "горными шейхами", часто даже не подозревая, кто именно сейчас занимает этот пост. Почти сразу после образования ордена Ассасинов Старец горы Хасан ибн-Саббах смог внушить всем правителям, что от его гнева невозможно укрыться. "Акт возмездия" - это лишь вопрос времени.
Своим примером Ассасины вдохновили многие тайные общества Востока и Запада. Европейские ордена подражали ассасинам, перенимая у них технику жёсткой дисциплины, принцип назначения офицеров, введение знаков отличия, эмблем и символов.
Из всего вышеизложенного можно было бы прийти к выводу, что верхушка управления фанатической исламской секты ассасинов придерживалась тщательно скрываемого, как от внешнего мира, так и от рядовых членов секты, "религиозного нигилизма" или, если быть более точным, "религиозного прагматизма", посредством которого решались те или иные насущные политические задачи.
Хасан ибн-Саббах умер в 1124 году в возрасте 74-х лет. После себя он оставил богатое наследие, тесно сплетённую сеть прекрасно укреплённых горных крепостей, управляемых фанатичными адептами. Его государству было суждено просуществовать ещё сто тридцать два года...
В 50-х годах XIII века, после разрушения Хорезма, войска Хулагу-хана, внука Чингизхана, вторглись в районы Западной Персии. Ослабленное государство исмаилитов пало практически без боя. Единственные, кто попытались оказать яростное сопротивление захватчику, были защитники горной крепости Аламут.
Татаро-монголы сутками беспрестанно атаковали горную вершину Аламут, пока по штабелям своих трупов не смогли подняться к стенам горной крепости. По приказу Хулагу-хана, татаро-монголы сравняли с землёй некогда навевавшую ужас на весь цивилизованный мир горную крепость Аламут, ставку "горных шейхов", правителей ассасинов.

В 1256 году горная крепость Аламут навсегда исчезла с лица земли. Позднее, в 1273 году, египетский султан Бейбарс уничтожил последнее убежище ассасинов в горных районах Сирии. С падением главной крепости ассасинов ушло в небытие и навсегда потеряно тайное знание ассасинов, которое они накапливали в течение почти трёх столетий. Прошло семь веков со времени падения ассасинов. Многое, что связано с их деятельностью, овеяно легендами и слухами.
Официально секта ассасинов прекратила своё существование в 1256 году, после того как пали крепости Аламут и Меммудиз. Ассасины, как и прежде, у истоков своего зарождения, были вынуждены рассеяться по горам и уйти в подполье. Исмаилиты потеряли государство, но сохранили веру. В XVIII веке исмаилизм, как течение шиизма, был признан шахом Ирана, и правителю города Керман Абу-ль-Хасану был присвоен титул Ага-хан.

Все это мы могли бы рассказать подробно и более красочно, но делать этого не стали. Мы просто решили сразу перейти к истории переселения исмаилитов в Индию.
Исмаилиты-мусталиты преобладали в Египте, низариты - в Иране, Сирии и Индии. Между XI и XVI веками часть мусталитов эмигрировала из Йемена и Египта в Западную Индию. Там мусталитские миссионеры обратили в исмаилизм многих выходцев из индусских торгово-ростовщических каст. Таким образом, в Гуджарате возникла община "бохра", превратившаяся со временем в торговую касту. На рубеже XVIII-XIX веков началось расселение "бохра" по всей Индии и за её пределы в страны Восточной Африки, Аравии, Юго-Восточной Азии.
В период 40-х годов XIX века до 40-х годов XX века, центром их был Бомбей, куда в начале 40-х годов XIX века переселился 46-й имам исмаилитов. С середины XIX века имамы исмаилитов стали носить титул Ага-хан. При Ага-хане III (имам исмаилитов в период 1885-1957) к руководству исмаилитов пришла верхушка буржуазии "бохра". Именно лидеры исмаилитов принимали самое активное участие в процессе создания государства Пакистан.
Во время первой мировой войны Агахан III из Бомбея в своих фирманах призывал исмаилитов поддержать своих государей против Германии и Турции: "Мусульманам, - писал он, - надлежит оставаться верными долгу присяги и покорными поведениям наших государственных и духовных властей... Никто не сможет победить столь могучих государей, как император и король Индии и Англии и царь всероссийский...".
После Революции 1917 года к выработке "восточной" политики большевиков были привлечены традиционные недруги исмаилитов - турки. В 1919-м году в Москву для переговоров с В.И. Лениным, И.В. Сталиным, Л.Д. Троцким и с проектом советизации Средней Азии, Индии, Китая и Афганистана прибыл Энвер-паша. Вся Средняя Азия, бывший царский Туркестан, должна была быть в предельно короткий срок советизирована и стать базой для грандиозного "восточного похода" дальше к Индийскому океану.
По распоряжению Льва Троцкого (Лейба Бронштейн) Полевой штаб Реввоенсовета разработал под руководством генерала А.А.Брусилова подробный план похода конных частей Красной Армии через горные хребты Гиндукуша, Тибета, Тянь-Шаня и Гималаев на восток в Афганистан, Индию, Непал и Китай.
Естественно, что в эти планы были включены и народности, жившие, в решающем для дела мировой революции, геополитическом регионе. Положение жителей высокогорных памирских областей усугубило два фактора:
- в горах скрывались и восстанавливали свои силы басмаческие отряды, спускавшиеся затем в долины Таджикистана, Киргизии, Узбекистана и вырезавшие представителей советской власти;
- сформированный в 1918 году в Ташкенте русский отряд пограничной стражи вместо охраны рубежей на Памире перешел на сторону басмачей.
В достаточно короткий срок советская власть восстановила на бывших рубежах Российской империи контроль над перевалами и горными проходами. Естественно, после этих перипетий Агахан III, тогдашний "имам времени", в СССР упоминался не иначе как "агент британской разведки", а исмаилитских пиров Бадахшана наравне с сунитскими религиозными деятелями подвергли репрессиям.
С середины XIX века имамы исамилитов стали носить титул Ага-хан. При Ага-хане III (имам исмаилитов в период 1885-1957) к руководству исмаилитов пришла верхушка буржуазии "бохра". Именно лидеры исмаилитов принимали самое активное участие в процессе создания государства Пакистан.
МУСУЛЬМАНСКАЯ ЛИГА политическая партия Пакистана (с 1972 Пакистанская мусульманская лига).
Основана - в 1906 году в Британской Индии.
В 1916 году - подписала с Индийским национальным конгрессом соглашение о совместной борьбе за предоставление Индии прав доминиона.
В 1940 году - потребовала создания отдельного мусульманского государства Пакистан. В 1947-54 и 1962-69 годах - правящая партия.
Сорок восьмой имам исмаилитов сэр султан Мохаммед-шах Ага Хан III (дед принца Карима) был одним из основателей и первым президентом Мусульманской лиги.
Приток в Мусульманскую лигу в годы второй мировой войны огромного числа новых членов потребовал совершенствования организационной структуры партии в целом и ее провинциальных и низовых организаций в частности. Если раньше счет числа членов Лиги в отдельных провинциях велся на сотни, а иногда и на десятки человек, то в начале 2-ой мировой войны, в ряде провинций, он уже шел на сотни тысяч. После принятия в марте 1940 года Лахорской резолюции и провозглашения лозунга создания независимых мусульманских государств, в рамках Британской Индии мусульмане тысячами устремились в Лигу. Если в 1927 году в ней числилось всего 1.330 человек, то в 1940 году Мусульманская лига имела 300 первичных организаций и насчитывала около 89 тысяч членов. В 1941 году членами Лиги было 112.078 человек, а три года спустя, к 1944 году, по данным самой Мусульманской лиги, их число достигло миллионов, а по данным, приводимым английским исследователем Р. Палм Даттом, - 2 миллиона человек.
По данные по некоторым провинциям свидетельствуют о стремительном росте организации. В одной лишь бенгальской провинциальной организации Лиги к 1944 году было свыше полумиллиона человек, а в синдской и пенджабской провинциальных организациях насчитывалось 300 тысяч и 200 тысяч человек соответственно. В Центральных провинциях в течение 1943 года в партию мусульман вступили 33.541 человек.
О росте влияния Мусульманской лиги свидетельствовало и число голосов, отданных за ее кандидатов на выборах и довыборах в законодательные органы Британской Индии. Из 61 депутатского места, на которые шла баллотировка по мусульманской курии, Лиге досталось 47, независимым депутатам - 10, Индийскому Национальному Конгрессу - только четыре места (!).
Признавая справедливость распространенного в литературе мнения, что принятие Мусульманской лигой лозунга создания Пакистана было одной из основных причин стремительного подъема ее популярности среди масс индийских мусульман, нельзя в тоже время не отметить такого обстоятельства, как резкое ослабление в годы второй мировой войны конкуренции Лиге со стороны других политических партий. Это стало особенно заметным после 1942 года, когда, начав антианглийское движение "Вон из Индии!", все видные лидеры ИНК оказались за тюремной решеткой.
Мусульманская лига в годы войны превратилась в крупнейшую организацию, выражавшую требования подавляющего большинства мусульман Индии, но руководить столь огромной армией желающих вступить в партию можно было лишь с помощью разветвленной системы управления.
О неуклонном росте роли председателя Мусульманской лиги свидетельствовала статья 33 устава 1944 года, согласно которой он провозглашался "основным главой всей организации", имеющим право осуществления самых широких полномочий в период между сессиями Лиги. В частности, председатель партии получил право назначать членов Центрального парламентского совета Мусульманской лиги (функция, принадлежавшая до 1941 года Рабочему комитету).
Еще одним проявлением тенденции к максимальной централизации руководства партией явилось создание в декабре 1943 года на ежегодной сессии Мусульманской лиги в Карачи Комитета действия - органа, появление которого мотивировалось необходимостью принятия важнейших решений и рассмотрения безотлагательных вопросов в случаях, когда не было возможности или времени собрать Рабочий комитет. Комитет действия должен был назначаться председателем партии в составе пяти - семи человек и имел своей главной задачей подготовку и организацию мусульман Индии к предстоящей борьбе за создание Пакистана. Ему же была передана такая функция Рабочего комитета, как контроль над деятельностью провинциальных организаций Мусульманской лиги, а также право принимать дисциплинарные меры, как в отношении их, так и в отношении отдельных членов партии.
Таким образом, механизм контроля над провинциальными и первичными организациями стал еще более компактным.
Твердая дисциплина и эффективная организация позволили руководству Мусульманской лиги сосредоточить основные усилия на осуществлении намеченной им программы действий, составной частью которой была выдвинутая Лигой в 1941 году программа политического, экономического и культурного развития мусульманской общины. При всей своей классовой и общинной ограниченности она сумела получить поддержку широких слоев мусульман.
Главные положения нового плана Мусульманской лиги охарактеризовал М.А. Джинна в своем выступлении на Мадрасской сессии в апреле 1941 года. Основу этого плана, заявил он, должны составить четыре столпа национальной жизни мусульман:
1. развитие просвещения,
2. экономическое и социальное развитие мусульманской общины,
3. создание армии политических работников,
4. пропаганда теории мусульманской нации и необходимости создания независимого мусульманского государства.
Мусульманской лигой специально готовились собственные пропагандисты и проповедники. В рамках Мусульманской лиги были созданы специальные подразделения, занимающиеся сбором информации, пропагандой и формированием общественного мнения в необходимом для партии направлении. Из среды наиболее образованных членов Мусульманской лиги был создан комитет писателей, который подбирал соответствующую литературу по социальным, политическим, образовательным и ряду других вопросов. В рамках Мусульманской лиги был создан даже комитет профессиональных музыкантов для написания и исполнения песен, прославляющих Лигу и ее лидера Каид-и-Азама Джинну.
Самостоятельной структурой, подчиненной только председателю Всеиндийской Мусульманской лиги, была Мусульманская Национальная гвардия. Главная цель вербовки и обучения национальных гвардейцев состояла, по утверждению секретаря Лиги М. А.Х. Испахани, в том, чтобы выработать у них дух службы и готовность жертвенности делу партии и сделать их дисциплинированными и самоотверженными бойцами за социальный, экономический и политический прогресс масс. Провинциальным подразделениям Мусульманской лиги рекомендовалось рекрутировать как можно больше молодых людей: учить их моральным установкам, привлекать к наиболее полезным видам деятельности, таким как распространение грамотности, и обеспечивать их здоровье занятием спортом и военными сборами.
Представителям средних слоев, крестьянства и городской бедноты, в сознании которых огромную роль играла религия, всячески внушалось, что единственной гарантией защиты ислама может быть только мусульманское государство.
Таким образом, провозгласив своей основной целью создание в рамках Индии независимого государства мусульман, руководство Лиги разработало и начало осуществлять достаточно конкретную программу действий в политической, экономической и социальных областях. Эта программа помогла ей, с одной стороны, привлечь к себе массу индийских мусульман, с другой - обеспечить поддержку имущей верхушки мусульманской общины, получившей гарантии не только сохранения, но и укрепления своего положения.
Большинство современных исмаилитов - низариты. Они проживают в Пакистане, Индии, Иране, Ираке, Сирии, Афганистане, Китае, Бирме и других странах Азии; в Египте и ряде стран Восточной Африки; в СССР - в Горно-Бадахшанской автономной области.
В Афганистане существуют две крупные общины исмаилитов: тюркоязычные хазарейцы (Хазараджат, Баглан, Кабул), возглавляемые наследственным пиром (учителем) Сайидшахом Насером Надири, и исмаилиты Бадахшана. По разным причинам эти общины не входят в систему "Советов низаритов-исмаилитов", охватывающую 11 стран мира.
Сегодня исмаилитов в мире насчитывается 20 миллионов, из них в Афганистане около 500 тысяч. Второй район компактного проживания исмаилитов охватывает афганскую провинцию Бадахшан, таджикистанскую Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) и крайний север Пакистана - Читрал.
Центральный пункт этого направления в исламе - необходимость беспрекословного повиновения "имаму времени" (имаму данной эпохи) Ага-хану, который считается источником всякого знания. Исмаилиты достаточно либерально относятся к внешней обрядовой стороне - в районах их проживания мало мечетей-джамаатхана.
Для понимания ситуации важно отметить, что описания бедности относятся только к исмаилитам Центральной Евразии, сохранившим старые обряды и не вошедшим в "Совет низаритов-исмаилитов", так как в целом исмаилиты - одна из самых богатых религиозных общин мира (к примеру, личное богатство Агахана the New York Times оценивает в 1,4 млрд долларов). Пакистанские, американские, британские и другие исмаилиты формируют в своих странах достаточно финансово обеспеченные общины. Созданные нынешним имамом времени Агаханом IV (Шах Карим ал-Хусайни) некоммерческие "Организации по развитию", прежде всего "Фонд Агахана", осуществляют Программу помощи и развития Памира, включая поставки продовольствия в ГБАО и афганский Бадахшан, перестройку сельского хозяйства и строительство жилья.
49-й имам исмаилитов (с 1957 года) Ага-хан IV Карим - мультимиллионер, имеет титул "королевского высочества", который присвоен ему британской королевой и шахом Ирана. Живёт в Западной Европе. Все низариты обязаны платить ему дань.
"...В исповедании веры шиитов очень важна роль духовного вождя, то есть, интерпретации. Но западная мысль смешивает отношения между духовным и светским с отношениями типа Церковь и Государство. Это разные планы, которые захватывают личную сферу и общину, в которой живешь, а не политический авторитет государства. Коран запрещает судить способ вероисповедания другого мусульманина, а также запрещает навязывание какой-либо религиозной практики или веры. В исламском мире - а это пятая часть населения Земли - есть разные примеры религиозной практики, которые соответствуют моральным принципам веры. Коран предписывает тем, кто пользуется авторитетом в жизни общества, нести ответственность за развитие и процветание их общин...
... Я мусульманин, и живу на Западе. Я постоянно спрашиваю себя, почему возникла такая ситуация. Политические и экономические отношения Запада и мусульманского мира доказывают, что существуют хорошие отношения и тесные связи между очень разными странами. Не конфликт цивилизаций, а только большая доза невежества и нежелания углубить знания друг о друге. Это конфликт между стереотипами и предубеждениями, а не между цивилизациями. Сейчас многие публикуют в газетах свои объяснения и комментарии. Но многие ли знают, например, в чем разница между шиитами и суннитами, между джихадизмом и радикализмом, между арабскими мусульманами и мусульманами Азии и Африки? Очень большая путаница в школах и университетах, то есть в источниках культуры на Западе. Не преподается ничего о мусульманском мире, а значит, теряется из вида основной принцип Корана: этика, воспитание свидетельствования веры в каждый момент жизни соответствующим поведением. А ведь именно поэтому Ислам не стал светским, как Христианство. Мы не делаем различий между земными и духовными проявлениями, не ставим на первый план проблему выбора, согласно концепции Святого Августина. Но разнообразие концепций есть и в Христианстве. Разнообразие, если оно способствует встрече и узнаванию, это позитивная ценность. Понять мусульманский мир и веру в Ислам - это значит, для Запада, в первую очередь, осознать плюрализм народов и их различий, а также перестать считать талибов представителями всего мусульманского мира. Какова была бы реакция христианина, если бы мусульманин отождествил католичество с инквизицией?.." - цитата из интервью Ага Хана газете "Corriere Della Sera", Италия, 23 октября 2001 года.
Не стройте дороги к нашим домам
Во вторник 9 мухаррама 1297 года хиджры, что соответствовало 11/23 декабря 1879 года, из Самарканда на восток, к Ферганской долине, выехало четверо всадников. Тонконогие туркменские аргамаки-ахалтекинцы уносили в предрассветную зимнюю мглу претендента на эмирский престол Афганистана - Абдурахман-хана - и его ближайших соратников. С этого малоприметного для несведущих людей события начинался новый этап в истории этой страны.
Не вдаваясь в запутанные перипетии династической борьбы между потомками афганского эмира Дост Мухаммед-хана, победителя англичан в первой англо-афганской войне 1838-1842гг., упомянем, что Абдурахман-хан, внук легендарного эмира, в 1866 году восстал против своего венценосного дяди - эмира Мухаммада Шер-Али-хана и временно завладел Кабулом, но вскоре был разбит и в 1868 году бежал в Среднюю Азию, а вернее в Туркестанское генерал-губернаторство России, где, выражаясь современным языком, попросил политическое убежище.
Наконец, в начале января 1880 года, перевалив через перевал Мура на Гиссарском хребте, Абдурахман-хан по долине Каратаг-дарьи вышел к Регару (ныне город Турсунзаде) и далее через Дербент и Байсун к Амударье. Но переправляться непосредственно в провинцию Балх было опасно - местность была под контролем политических противников Абдурахман-хана.
Пришлось пройти на восток и через Курган-Тюбе и Куляб выйти к переправе у Бурдалыка, откуда начинался путь в афганский Бадахшан. Как писал в своем письме к оставшимся в Ташкенте детям Абдурахман-хан: "при страшно ненастной погоде, сильном ветре и снеге, афганцы переправлялись на тот берег в течение трех дней, ежеминутно рискуя погибнуть в грозно шумящих волнах бешеной реки".
Вскоре, к обосновавшемуся в Рустаке Абдурахман-хану с волеизъявлением покорности стали прибывать наибы вилоятов, главы родов и племен хазарейцев, узбеков. Претендент на престол, вполне в духе договоренностей с генерал-губернатором Туркестана, буквально через три месяца установил контроль над большей частью левобережья Амударьи. Генерал-адьютант К.П. фон-Кауфман мог быть довольным: на границах с Туркестанским генерал-губернаторством России и союзного ему Бухарского эмирата был создан мощный буфер от проникновения "преосвященных мореплавателей"!
10 июля 1880 года в Кабуле на народном собрании афганцам было объявлено, что королева Виктория признает эмиром Афганистана племянника покойного Шир-Али-хана Абдурахман-хана.
После присоединения Средней Азии к России между Англией и Россией в 1873 году было заключено соглашение, по которому северной границей Афганистана признавалась река Амударья. Однако противостояние между Россией и Англией привело к тому, что при поддержке Англии эмир Афганистана Абдуррахман-хан в 1883 году вторгся в Рушан, Шугнан и Вахан, нарушив тем самым договоренности 1873 года. После захвата афганцами этих территорий население подверглось непосильной эксплуатации: до 1891 года афганцы брали дань не только натурой и деньгами, но и людьми, отдаваемыми в рабство - рабство в Афганистане было отменено лишь в 1940-х годах (!). Была введена и новая система управления и в округах Шугнан и Рушан, на которые был разделен Западный Памир, были назначены уездные начальники-хакимы. Резкое ухудшение положения местного населения вызвало его массовое бегство как в пределы российских владений, так и в Читрал, Хунзу.
Благодаря британской негласной политической поддержке и субсидиям он огнем и мечом покорил периферию своей страны. В 1885 году Кабульский эмир Абдурахман-хан объединил под своей властью территорию, зажатую между великими империями. В итоге народы разных культур, традиций, говорившие на разных языках, оказались в одном государстве.
Абдурахман-хан стал известен как "Железный эмир", прозванный так за безпощадную жестокость, с которой он ломал феодально-племенные отношения в Афганистане, а также власть духовенства. Для того,чтобы создать себе славу поборника ислама, эмир заставил население Кафиристана принять ислам, после чего эта область была переименована в Нуристан. Кроме того, Абдурахман-хан насильно переселил десять тысяч семей гильзаев на земли к северу от Гиндукуша. Этим он достиг двойной цели: ослабил могущество гильзаев наи юге и усилил влияние пуштунов на севере - оказавшись на севере в окружении таджиков и узбеков, гильзаи, противостоявшие дурани, вынуждены были думать о пуштунской общности.
По подсчетам российской пограничной администрации, в начале 1880-х годов население Западного Памира достигало 35 тысяч человек. Однако, в связи с военными действиями афганцев, захвативших эту территорию и антиафганским восстанием местного населения численность последнего резко, практически вдвое, сократилась. Жители были частью вырезаны, частью бежали в пределы Туркестанского генерал-губернаторства (Ферганская долина), Самарканд и Дарваз (Бухарский эмират), Читрал и другие сопредельные страны.
В Читрале можно услышать такую легенду: "Однажды правитель Афганистана задумал построить дорогу к горным селениям Читрала. Он направил к подножию гор людей и технику. Но работа не продвигалась, а рабочие стали исчезать. Тогда шах послал туда рабочих с охраной, но спустя несколько дней и охрана и рабочие исчезли... Понял Шах, что происходит, и призвал к себе старейшин наших гор: "Зачем крадете вы моих строителей", - спросил он у них, - "ведь я делаю для вас доброе дело. Сегодня вы доезжаете до ущелья, а потом перекладываете груз на плечи и, как сотни лет назад, карабкаетесь к своим селениям. Я построю для вас дорогу, которая поведет до самого вашего дома". И ответили ему старейшины: "О Великий Шах, мы отдадим тебе всех твоих людей, но пусть они не строят дороги к нашим домам. Сегодня ты хочешь подарить нам дорогу. А завтра ты скажешь нам, как по ней ходить...".
Даже сегодня Читрал - место отдаленное и захолустное. В окружающих его обширных пустынных долинах только и услышишь, что меланхоличный орлиный клекот, гул случайного джипа и бесконечный отдаленный грохот потоков, стекающих с ледников и мчащихся по крутым ущельям. Но в дни Большой Игры до слуха путешественника иногда долетал более зловещий звук - лязг передернутого затвора. В этих краях непрошеных гостей не жаловали, и европейцы предпочитали сюда не соваться, разве что по специальному приглашению и в сопровождении надежного эскорта
Но приход сюда означает лишь начало приключений. От Гилгита на восток ведет 200-мильная узкая тропа с крутыми, доступными только джипам подъемами. Машина ползет на пониженной передаче, то и дело зависая над головокружительными обрывами. Даже этот маршрут часто становится непроходимым, когда какой-нибудь участок тропы сползает в пропасть или сверху обрушивается осыпь. Награда, впрочем, велика - едва ли не самые величественные в мире горные пейзажи.
Зимой дорога, если ее можно так назвать, закрыта, если вы не располагаете навыками преодоления глубоких снегов, которые преграждают путь к расположенному на высоте 12 000 футов перевалу Шандур, самой высокой точке на пути. Не считая воздушного, в Читрал есть еще только один путь - с юга, через Сват, по дороге, которую мы с вами уже прошли. Строительство этой дороги обошлось в 500 жизней. Зимой иногда телеграфные столбы заносит снегом так, что до проводов остается не более фута. Но каким бы путем вы ни прибылив Читрал, вы сразу поймете, что достигли конечного пункта.
Дорогу на Читрал и ее значение для англичан лучше нас описал сам сэр Уинстон Черчилль, в своей "Истории Малакандской полевой армии":
"...Малаканд подобен огромной чаше, края которой проломаны многочисленными расселинами и превращены в зазубренные острия. На дне этой чаши находится кратер. Малакандский проход представляет собой самую глубокую из этих расселин, а самая высокая из зазубренных вершин - холм Проводников, у подножия которого стоит форт. Не требуется специальных знаний, чтобы понять, что для защиты этого места необходимо удержать ободок чаши. Но в Малаканде дно этой чаши недостаточно широкое, чтобы разместить там необходимый для обороны гарнизон. Поэтому с военной точки зрения это плохая позиция, которую трудно защищать. В то время, о котором идет речь, южный Малакандский лагерь был весьма неподходящим местом для размещения войск. Он был легко доступен, тесен, и над ним господствовали окружающие его высоты.
Нехватка места в лагере на Котале привела к необходимости создать еще один лагерь на равнине Хара. Он был разбит примерно в двух милях от перевала, и, хотя рядом с ним находилась деревушка Хар, из политических соображений ему было дано имя Северный Малаканд. Позиция этого лагеря была, очевидно, намного сильнее, чем позиция Котала. Хотя он и располагался на пересеченной местности - среди скал и оврагов, он был достаточно просторным, и никакие высоты над лагерем не господствовали. Не было опасности, что гарнизон окажется в нем заперт и не сможет развернуться для атаки, как в лагере на перевале. Стратегического значения он, конечно, не имел, и его просто использовали для размещения войск, которые должны были удерживать Малаканд, поскольку места для них в кратере и в форте на перевале не было.
Сперва думали, что бригада задержится на этом передовом рубеже не более чем на несколько недель. Но проходили месяцы, и лагерь стал приобретать вид постоянного. Офицеры построили себе жилища и столовые. Многие офицеры привезли жен и семьи, и лагерь стал превращаться в настоящий военный городок. Набеги гази не возмущали спокойствия. Револьверы, которые все лица, покидавшие лагерь, должны были иметь при себе в соответствии с предписанием, либо носились незаряженными, либо доверялись туземным конюхам.
После перехода через Малакандский перевал первый поворот направо ведет в долину Свата. Здесь путешественник оказывается между двух гор. Со всех сторон обзор ограничен, взгляд упирается в горы и скалы. Сама долина широкая ровная и плодородная. Посередине протекает быстрая река. По обоим ее берегам широкой полосой тянутся рисовые поля. Другие культуры выращиваются на более сухих участках. Вокруг разбросаны многочисленные деревушки, некоторые из них весьма густонаселенные.
В древности в этом месте была столица одного буддийского царства, которое называлось У-Чан или Удьяна, что значит "парк" - так ее прежние владельцы оценивали эту прелестную долину. Этот "парк", который включал все земли по обоим берегам реки Сват, славился своими лесами, цветами и фруктами. Но хотя долина по-прежнему оставалась прекрасной, леса ее пали жертвой расточительности, а цветы и фрукты выродились из-за невежества жестоких завоевателей, в чьи руки она попала.
Нынешние ее обитатели пользуются дурной славой. Среди патанов распространена поговорка: "Сват - это рай, но сваты - исчадия ада". Много лет на них лежало клеймо трусости, за что приграничные племена их презирали, им не доверяли. Однако их поведение в последних войнах смыло с них хотя бы это пятно.
Сейчас власть в долине Свата принадлежит нескольким мелким племенным вождям, но до 1870 г. она принадлежала одному правителю. Ахунд из Свата был по происхождению коровьим пастухом - должность в Индии весьма почетная. Это занятие и вдохновило будущего правителя. Много лет он сидел на берегу Инда и медитировал. Так он стал святым. Слава о его святости разнеслась по всей стране. Тогда сваты стали убеждать его переселиться к ним и жить в их долине. С исполненной достоинства и дипломатичности неохотой он, наконец, согласился сменить берега Инда на берега Свата. Несколько лет он жил в зеленой долине, почитаемый ее обитателями. Во время великого мятежа умер Сайд Акбар, король Свата, и святой унаследовал как светскую, так и духовную власть. В 1863 году он объявил джихад против британцев и возглавил сватов и бунервалов во время кампании в Амбейле. Однако энергичные действия Сиркара, положившего конец этой войне, очевидно, произвели на старика впечатление, поскольку к концу войны он предпочел заключить мир с правительством и получил от него многочисленные знаки уважения.
Перед смертью, в 1870 глду, он собрал своих людей и объявил им, что однажды их долина станет полем битвы между русскими и англичанами. Он убеждал их сражаться на нашей стороне, когда придет тот день.
Два его сына уже умерли, но два его внука, оба еще юноши, живут в долине. Они являются владельцами многочисленных поместий Ахунда, разбросанных по всему Свату. Они не имеют почти никакого политического влияния, однако сами они и их собственность пользуются уважением как у туземцев, так и у британцев, в память их деда, который покоится в ореоле святости в Сайду, около Мингаоры.
Из Малаканда видна сигнальная башня Чакдары, стоящая в восьми милях к востоку. Отсюда через долину струится, как лента, широкая, идущая по склону дорога. В семи милях от Котальского лагеря она проходит через перевал Амандара - проем в неровности микрорельефа, выступающей из гряды южных гор. После этого она сворачивает к северу и приводит к переброшенному через реку укрепленному мосту. Я советую читателю обратить внимание на эту дорогу, поскольку она имеет историческое значение. Это не просто дорога, по которой могла продвигаться Малакандская действующая армия, это то, что составляет весь смысл существования этой армии. Без этой дороги не было бы ни Малакандских лагерей, ни сражений, ни Малакандской действующей армии, ни всей этой истории. Это дорога на Читрал.
Здесь, таким образом, встает весь сложный и многогранный вопрос пограничной политики. Мы удерживаем Малакандский проход, чтобы дорога на Читрал была открытой. Мы держим открытой дорогу на Читрал, поскольку мы сохранили за собой Читрал. Мы удерживаем Читрал в соответствии с "политикой продвижения вперед". Но если рассмотрение тех противоречий, которые связаны с удержанием Читрала, можно опустить, то описание средств, которыми оно достигается, здесь необходимо. Ноушера является железнодорожной базой этой дороги. Отсюда мы проследовали по ней до Мардана и через границу. Здесь начинается новый, спорный ее отрезок. Пройдя сперва через территорию нижних ранизаев, она взбирается на Малакандский перевал, спускается в долину за ним и идет оттуда через территорию верхних ранизаев и Нижний Сват к Чакдаре. Там она пересекает реку Сват по хорошему подвесному мосту, который охраняется фортом. Три пролета моста вместе составляют в длину около 1500 футов. Он был сооружен в 1895 г., во время военных операций, примерно за/шесть недель и представляет собой весьма примечательный образец искусства военных инженеров. За Сватом дорога проходит через территории хана Дира на север и на восток к Саду - незначительной деревушке в тридцати пяти милях от Малаканда. Это конец первого отрезка дороги, и дальше этого пункта колесный транспорт двигаться не может. Дорога, которая превращается в верблюжью тропу, вьется вдоль левого берега реки Панджкоры до того места, в пяти милях от Дира, где она вновь пересекает реку и выходит на правый берег по еще одному подвесному мосту. Отсюда она идет до места впадения в Сват реки Дир, вдоль которой достигает самого Дира, примерно в пятидесяти милях от Саду. За Диром верблюды ходить не могут, и здесь начинается третий отрезок пути - тропа, пригодная только для мулов, длиной около шестидесяти миль. Дорога от Дира являет собой триумф инженерного искусства. Во многих местах она проходит по деревянным галереям, построенным вдоль склонов огромных крутых утесов. На других участках она невероятными зигзагами огибает горные пики, а кое-где дорога прорублена в толще скалы. В конце этой дороги находится форт Читрал, охраняемый гарнизоном, состоящим из двух батальонов, одной саперной роты и двух горных орудий.
Дорога поддерживалась и охранялась теми племенами, через территории которых она проходила; но в двух основных точках, где она могла быть перекрыта, за ней наблюдали имперские гарнизоны. Малакандский форт контролировал горный проход. Форт Чакдара защищал мост через реку. Все прочее было доверено воинам туземных племен. Племя ранизаев получает от индийского правительства ежегодную субсидию в 30 000 рупий, на которые содержатся двести солдат иррегулярной армии. Они отгоняют мародеров и предотвращают насилия и убийства. Хан Дира, на территорию которого приходятся семьдесят три мили дороги, также получает от правительства субсидию в 60 000 рупий. Он выставляет четыреста солдат иррегулярной армии для охраны дороги. До великого восстания вся эта система работала превосходно. Туземцы, заинтересованные в поддержании дороги, всячески избегали вступать в конфликты с правительством. Старейшины нижних ранизаев, живущих к югу от Малаканда, отобрали оружие у всех своих чересчур рьяных молодых воинов и запретили им нападать на британские войска. Верхних ранизаев заставили присоединиться к Безумному Мулле суеверие и страх, но они пошли на это крайне неохотно. Сваты были охвачены фанатизмом. Хан Дира все это время вел себя лояльно, поскольку целиком зависел от британской поддержки. Неопределенность и неустойчивость их власти всегда заставляла мелких вождей искать дружбы какого-нибудь могущественного государя. В 1876 году мехтара Читрала, Аммана аль-Мулька, побудили искать поддержки у махараджи Кашмира, нашего вассала, и сделаться его вассалом. В соответствии с общей схемой наступления британское агентство было немедленно учреждено в Гильгите, на границе между Читра-лом и Кашмиром. Амману аль-Мульку было подарено некоторое количество оружия и боеприпасов, а также назначена ежегодная субсидия в 6000 рупий, которую затем увеличили до 12 000 рупий. Таким образом, британцы оказались заинтересованными в Читрале и в наблюдательном пункте на его границе. В 1881 году агентство было упразднено, но влияние осталось, и в 1889 году здесь была создана база с более многочисленным гарнизоном..."
Вопрос о связях Индии, как колонии Британской империи, с Туркестаном - "национальной окраиной" Российского государства - нельзя рассматривать вне контекста общих англо-русских отношений в XIX-начале XX веков. Тем более , что взаимоотношения между двумя значительными регионами Азии развивались издавна и на самых разных уровнях - торгово-экономическом, политическом, культурном. В древности Средняя Азия и Северная Индия входили в состав одной империи - Кушанской. На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий н.э. они "соседствовали" в границах державы Махмуда Газневи. Но и после ее распада угроза со стороны турушков, так индийцы называли тюрок-мусульман из Средней Азии, стала постоянной проблемой для североиндийских правителей. В конце XIV века по Индии смерчем прошли войска "гостя" из Средней Азии - Тамерлана, незадолго до этого "посетившего" Русь, но без особого успеха. Здесь "железный" хромец "отвел душу" - он разграбил, разрушил и истребил все, что только смог. Но, тысячам искусных мастеров он сохранил жизнь - с тем, чтобы угнать их в Туркестан, где они потом существенным образом обогатили среднеазиатское ремесло, зодчество, науку. Память о жестоком завоевателе долго не угасала среди индийцев, но история еще раз "освежила" ее, когда в 1526 году праправнук "железного хромца", 3ахиреддин Мухаммад Бабур, выходец из Ферганы, основал в Индии династию и Империю Великих Моголов. Но до конца своей жизни первый "Великий Могол" грезил о своей родине - Туркестане и любимом городе Оше, что, кстати, весьма поэтично описал в своих мемуарах. И, по сути, все 322 года существования династии крупнейшим государством Индии правили выходцы из Средней Азии.
Нам просто хотелось бы обратить внимание на ряд обстоятельств, доселе, на наш взгляд, недостаточно освещенных в проблеме индо-среднеазиатских отношении в XIX - начале XX веков. И, прежде всего, конечно, на их межгосударственный, международный аспект. В указанный период Туркестан не был чисто географическим понятием в умах политиков того времени.
Три среднеазиатских ханства - Бухарское, Кокандское и Хивинское - давно уже были втянуты в сферу международных отношений. Отечественные историки доказали, что Россия, начиная с Х века, постоянно развивала и укрепляла свои контакты с Туркестаном. Причем, в XVII веке она серьезно рассматривала регион в качестве "транзита" в своей торговле с Индией. Англичане, начавшие в это время утверждаться в Индии и потом завоевавшие ее, после "обустройства" в новых владениях, довольно скоро обратили внимание на Туркестан. Уже в 1783 году на границах Туркестана появился британский "чиновник" из Мадраса Джордж Фостер, который, под личиной туземца, прошел через Кашмир, Афганистан и Персию, собирая сведения, представлявшие военный, политический, экономический и прочий интерес для Лондона.
После того, как Наполеон предложил России организовать совместный поход на Британскую Индию, английское проникновение в Среднюю Азию, в значительной мере, активизировалось. Наиболее притягательным объектом для британских агентов здесь стала, погрязшая в тенетах средневековья, "Благородная Бухара". Не всем из них удалось ее достичь (например, Поттинджеру и Кристи), потому тем более был ценен успех ветеринара из Бенгальской армии и инспектора военных коннезаводств У. Мооркрофта, который вместе со своим помощником Д. Требеком в 1824 году прибыл в Бухару, якобы для закупки лошадей. То, что он был шпионом и имел дипломатические поручения, не вызывает сомнений, поскольку по пути "ветврач" заключил договор (!) с раджой в Ладаке. Кроме того, при нем состоял "туземец" Мир Изет-уллах, весьма активно собиравший разного рода "полезные" сведения для своего хозяина. В отличие от ладакского раджи, бухарский эмир Хайдар-хан отказался заключить договор с англичанами, но высоко оценил ветеринарные познания дипломата, беседуя с ним о "лошадиных" болезнях.
Именно по причине дипломатического (и политического) характера миссии Мооркрофта англичане держали в секрете все ее "бумаги" до 1841 года. В них, кстати, "ветеринар" раскрывал и "сокровенный" смысл британской политики в Средней Азии. Он писал, что Англии должно быть далеко не безразлично, какие товары будут приобретать жители Туркестана - из Санкт-Петербурга или Бирмингема, и что решить эту задачу, призваны британские власти Индии.
Дипломатические неудачи "ветврача" не обескуражили англичан. Следующим "послом" Британии в Бухаре стал А. Бернс - "кадровый" разведчик, работавший под началом известного английского шпиона на Востоке Генри Поттинджера. Бернсу удалось побеседовать в 1832 году в Бухаре только с визирем. Эмир отказался его принять, сославшись на болезнь. Он был наслышан о "подвигах" британцев в Индии и не желал иметь с ними никаких дипломатических "международных" отношений. Но зато англичане хотели иметь таковые. Развязав войну с Афганистаном, они планировали в последующем распространить свое влияние и на Туркестан.
В начале 1840-х годов в "Благородную Бухару" прибыли британские шпионы-дипломаты полковник Стоддарт и "миссионер" Конноли. Они имели целью склонить бухарского эмира к союзу с Англией в ее войне против афганцев. Бухарский правитель Насрулла Батур-хан прекрасно понимал, что англичане эту войну проиграли. Возможно, он отпустил бы британских "послов" восвояси. Однако он знал, что полковник Стоддарт проявлял слишком большой интерес к состоянию бухарской армии, а Конноли слишком рьяно проповедовал христианское "Слово Божие" среди мусульман, убеждая их в преимуществе такового над вероучением Пророка. Насрулла Батур-хан приказал казнить зарвавшихся "кафиров", что и было сделано на площади Регистан под радостные крики исламских фанатиков. Западные историки (прежде всего, английские) представляли Стоддарта и Конноли как христианских "великомучеников", пострадавших от мусульманского изувера Насруллы за то, что несли "свет" европейской цивилизации в среду "диких" народов Средней Азии.
Мы тоже считаем, что эмир Насрулла был далеко не добродетельным человеком, но и не собираемся возводить шпионов-англичан в ранг "святых" страдальцев. Они знали, на что шли. И бухарский эмир тоже знал, на что шел, давая понять британским властям в Индии, что им надо умерить свои политические "аппетиты" по отношению к его владениям в Туркестане. Его пугала не только война англичан с афганским эмиром Дост Мухаммедом. Он давно был встревожен активностью британской агентуры из Индии на своих границах. За три года до казни Стоддарта и Конноли "мир" (наместник) Вахана Мухаммед Рахим сообщал ему, что английский офицер из Индии Джон Вуд серьезно изучал проходы на Восточном Памире и в Бадахшане, составляя какие-то чертежи и карты. Наконец, эмир Насрулла Батур-хан не мог не знать, что могущественному "Ак-паше" ("Белому царю" - так называли российского императора в Средней Азии) не нравятся британские авантюры в Афганистане и вокруг него, равно как и те, кто якшается с англичанами. Зарубежный исследователь Д. Гиллард прав, когда пишет, что бухарский эмир был настроен антибритански потому, что опасался русских, которые могли помочь ему в борьбе против соседей - Кокандского и Хивинского ханств, и, напротив, помочь им в борьбе против него, если он станет союзником противников России.
Насрулла Бахадур-хан, пятый бухарский эмир из династии Мангытов, правил с 1827 по 1860 год. Человек крайне жестокий и недоверчивый. Вот краткая хронология основных событий в Бухаре во время его правления:
1832 Путешествие Александра Бернса через Кабул в Бухару.
1834 Поездка ориенталиста П. И. Демезона в Бухару под видом татарского муллы Мирзы Джафара.
1836 Официальная поездка прапорщика И. В. Виткевича.
1838 Полковник Чарльз Стоддарт арестован и брошен в яму.
1840 В Хиве капитан Джеймс Эббот пытается склонить хивинского хана оказать помощь в освобождении Стоддарта, но терпит неудачу.
1841 В Бухару из Коканда прибывает капитан Артур Конолли, ему удается увидеться со Стоддартом, однако эмир арестовывает и его.
1842 В Бухару прибывает посольство майора К. Ф. Бутенева, горные инженеры Леман и Богословский и ориенталист Н. В. Ханыков посещают Карши и Самарканд. Бутенев встречается с Конолли и Стоддартом и предлагает им свое покровительство, однако английские агенты отказываются от помощи в надежде получить выручку из Афганистана. Надежды англичан оказались тщетны - спустя недолгое время после отъезда миссии Бутенева обратно в Оренбург Стоддарт и Конолли были казнены у ворот бухарского Арка.
1843 Миссионер-англиканец Джозеф Вульф едет в Бухару для выяснения судьбы Конолли и Стоддарта.
В посещениях Бухары европейцами наступает пауза длиной в 16 лет.
1859 Посольство полковника Игнатьева прибывает из Хивы в Бухару, ему удается заключить торговый договор с Насруллой.
1860 Насрулла отравлен ртутью.
Сын его, эмир Музаффар-ад-Дин, в 1868 году после неудачных для себя сражений под Самаркандом и Зерабулаком, был вынужден покориться генералу Кауфману и Бухарское ханство стало русским протекторатом.
Столь пространные прелиминарии к основной теме, на наш взгляд, необходимы потому, что они повествуют о том, как начиналась, так называемая (зарубежными исследователями) ,"Великая игра" - англо-российское соперничество в Азии, в котором Британская Индия и Туркестан играли "заглавные" роли. Эта "ползучая", скрытая "игра" привела к тому, что Россия во второй половине ХIХ века утвердилась в Средней Азии, а Англия, двигаясь из Индии, подошла к отрогам Гиндукуша. И это продолжение "Великой игры" было связано со многими событиями.
Памир всегда оказывался в сфере интересов более сильных в военном отношении государств, начиная с афганцев и бухарцев до англичан с русскими. С начала XIX века на Памире шла, как говорил Киплинг - "Большая игра". Французы мечтали стравить Российскую и Британскую империю еще со времен Екатерины II (проект М. де Сент-Жени российской военной экспедиции в Индию). Павел I договорился с Наполеоном о завоевании британской Индии русским и французским корпусами по 35 тысяч человек. 1 марта 1801 года 22507 человек (41 полк, две роты артиллерии и 500 калмыков) выступили под комадованием атамана Войска Донского генерала Орлова в индийский поход. 18 марта войска переправились через Волгу, но смерть Павла вынудила 25 марта повернуть назад. Впоследствии британцы судьбу не искушали, а относились к слухам об "индийских проектах" в России весьма серьезно.
Памир всегда изучали, как будущий театр военных действий. Каждый геополитический игрок шел со своими "геодезистами" - китайцы для подготовки географических карт брали на Памир католических и протестантских миссионеров, русские - татарских и бухарских купцов, британцы - мусульманских ученых из имперской "Большой Тригонометрической Съемки Индии". Географы и военные, разведчики и купцы шли рядом друг с другом, а иногда и под видом друг друга.
Английским офицерам-разведчикам и шпионам из Британской Индии трудно было долго проработать на "нелегальном" положении в Русском Туркестане, а за короткое время они не могли собрать нужный объем "полезной" (читайте: секретной) информации. Поэтому, обычно в качестве тайных английских агентов, добывавших секретные сведения (о состоянии, дислокации, численности, размещении военных складов и т. п. российских войск) в Туркестане выступали т.н. "пандиты" (буквально: "ученые") - "туземные" агенты из Британской Индии. Англичане начали использовать "пандитов"-индийцев еще в 1820-х годах. В частности, их было немало при упоминавшемся выше Мооркрофте. Но в то время "туземные" агенты из Индии выполняли вспомогательные функции "слуг" у британских шпионов-дипломатов, работая по мелким, "разовым" поручениям.
С приходом России в Среднюю Азию разведслужбы в Британской Индии быстро сориентировались и в 1864 году открыли специальную школу для подготовки кадровых "туземных" шпионов, которые в новых условиях могли бы работать в Русском Туркестане самостоятельно и долго, "растворившись" в среде местных жителей, то есть делать то, на что уже не были способны "белые шпионы" - англичане. В последующем в Британской Индии было создано несколько таких "пандитских" школ. Подготовка "туземных" шпионов в них была достаточно серьезной - кроме среднеазиатских наречий, "пандиты" основательно изучали топографическое дело, геодезию, картографию и прочие "нужные" предметы.
Характерно, что в "чисто" мусульманский Туркестан англичане предпочитали посылать не их единоверцев-"пандитов", а индусов или непальцев, считая их более "сообразительными" для агентурной работы. Большинству "туземных" шпионов из Индии англичане поручали выполнять в Русском Туркестане конкретные (одноплановые) задания, однако были среди "пандитов" и те, кому поручались сложные и многоплановые дела, включающие сбор политической и дипломатической информации. Среди них был знаменитый агент Сарат Чандра Дас, послуживший прототипом киплинговского Кима. Ежегодно "пандиты" под видом торговцев, дервишей, табибов (знахарей) и др. растекались по городам и весям Русского Туркестана, выполняя задания английских разведслужб в Британской Индии.
"Дирижировал" их деятельностью т. н. "мунши" - резидент в Сарыколе (Китайский Туркестан), назначаемый из числа наиболее многоопытных "специалистов" по Средней Азии в среде "туземных" английских шпионов, обученных в спецшколах разведслужб в Британской Индии. Разведцентр в Сарыколе создавался еще в те времена, когда в Кашгарии (так часто называли Восточный Туркестан или китайскую провинцию Синьцзян) властвовал проанглийски настроенный Якуб-бек, возглавлявший мусульманских повстанцев региона и их временное государственное образование - Джетишаар в 1860-1870-х годах, при котором британские "советники" и шпионы из Индии чувствовали себя, как рыба в воде.
Однако и после разгрома Якуб-бека и его "государства" китайская администрация Синьцзяна, "в пику" российским властям в Туркестане, не чинила никаких препятствий деятельности разведцентра и "мунши", им руководившего по указке английских спецслужб Британской Индии. Известный ученый А.Штейн писал в 1912 году, что в Сарыколе он не раз встречался с британским резидентом-"мунши", - "всегда прекрасно выглядящим большим пенджабцем".
Любопытно, что наиболее интересные "извлечения" из шпионских донесений "пандитов", касающиеся Русского Туркестана, англичане позволяли себе даже публиковать открыто, причем, и в таких авторитетных научных изданиях, как "Журнал Королевского Географического Общества", что было сделано, например, с отчетом одаренного "туземного" агента из Британской Индии, выступавшего под кличкой "Мирза". Таким образом англичане давали понять российским властям в Средней Азии, что им известно о регионе значительно больше, нежели те могли себе представить.
Что же касается английских разведчиков - офицеров и чиновников, то они прибывали в Русский Туркестан из Британской Индии открыто, как правило, под видом путешественников, имевших при себе "официальные" бумаги, например, от того же Королевского Географического Общества. Российские правительственные власти в Туркестане им не препятствовали, делая вид, что они верят "официальным" намерениям "визитеров", однако осуществляли строжайший надзор за их передвижением. Нам уже приходилось писать, что в дореволюционный период "британские "туркестановеды" могли относительно свободно наезжать в Среднюю Азию, пребывать в ней длительное время, передвигаясь по региону в целях детального изучения обстановки, а проще - шпионажа".
Но здесь следует уточнить, что этот шпионаж был научным, поскольку английские разведчики старались в максимальной мере ответственно и объективно, не только широко, но и достаточно глубоко вскрыть суть происходящих в Русском Туркестане процессов. И потому они имели о них приблизительно верное представление, основывавшееся на зорком "взгляде со стороны". Неудивительно, что шпионы-англичане, прибывавшие в Русский Туркестан из Британской Индии, оставили после себя немало сочинений о Средней Азии, представлявших не только "фискальный" интерес, но и глубоко научный.
Вместе с тем, следует отметить, что в это же время английские разведслужбы в Британской Индии не отказывались и от практики тайного проникновения офицеров-разведчиков в пределы Русского Туркестана для выполнения тех или иных спецзаданий. Так, в 1891 году русские военные выдворили с территории Восточного Памира капитана англо-индийских разведслужб Ф. Янгхазбенда, явившегося туда для "предварительного" раздела региона между цинским Китаем и Афганистаном. Соответственно, не отказывались "дирижеры" английского шпионажа из Британской Индии от использования для работы в Русском Туркестане "туземных" разведчиков. Нам уже приходилось писать о том, что активизация английского шпионажа в Средней Азии в конце XIX - начале XX вв. "была связана с обострением российско-британских отношений". В указанный период власти Русского Туркестана провели ряд "чисток" среди индусского населения региона с целью выявления английских шпионов. В результате "из Туркестанского края были выселены десятки индусов, чья деятельность казалась администрации сомнительной. Высылаемые получали от последней так называемые "проходные свидетельства", в которых отмечалось, что предъявитель сего - британский подданный должен покинуть пределы Российской империи, нигде не останавливаясь в пути, за исключением ночлега и серьезного заболевания".
Конечно, среди высланных были и те, кто обвинялся в шпионаже необоснованно, поскольку туркестанская администрация действовала по принципу: "лишнее не повредит". Однако представляется важным подчеркнуть одно обстоятельство - даже "доказанные" шпионы-индусы не подвергались аресту и тюремному заключению, а лишь высылались. Власти Русского Туркестана знали, что для индусов длительное пребывание в тюрьме равносильно смерти, так как, согласно канонам "арья дхармы" (индуизма), они не могли принимать пищу, приготовленную "иноверцами", и предпочитали умереть, нежели преступить одну из важнейших заповедей своей религии. С другой стороны, такое благородное отношение к "туземным" английским шпионам по-своему оценивалось властями Британской Индии, которые тоже не "обижали" российских разведчиков, ограничиваясь их выдворением.
Здесь есть еще один аспект, заслуживающий особого внимания. Известно, что народы Индии изначально относились весьма недоброжелательно к британскому владычеству и нередко открыто выступали против него. Приход России в Среднюю Азию был расценен некоторыми деятелями индийского национально-освободительного движения как обнадеживающий факт - растущие англо-русские противоречия были очевидны. Они полагали, что, исходя из последних, Россия может помочь им в борьбе против британского колониального ига, возможно, даже организовав военный поход против англичан в Индии. О соответствующих планах Наполеона Бонапарта и российского императора Павла I лидерам индийского освободительного движения было хорошо известно, и они надеялись на их "реанимацию" в Петербурге.
Поэтому, непосредственно сразу же после взятия Ташкента в 1865 году русскими войсками к военному губернатору Туркестанской области, генерал-майору М. Г. Черняеву тайно прибыли посланцы из Кашмира, предложившие вступить в союз для борьбы против английского владычества в Индии. Поскольку Туркестанская область входила в состав Оренбургского генерал-губернаторства, то Черняев обратился к Главному Начальнику последнего Н. Крыжановскому с предложением довести до сведения правительства о намерениях посланников из Индии. От себя лично Черняев давал самые положительные референции на их счет.
30 декабря 1865 г. оренбургский генерал-губернатор писал вице-канцлеру (министру иностранных дел) князю А. М. Горчакову, что кашмирский махараджа прислал в Ташкент двух послов "узнать виды нашего правительства относительно британских подданных в Ост-Индии". При этом Н. Крыжановский указывал, что не следует "резким отказом отталкивать от себя людей, могущих быть нам впоследствии полезными". Правительство отнеслось прохладно к перспективе союза с индийскими "карбонариями", поскольку его больше тревожила перспектива обострения отношений с Англией в глобальных масштабах. Вместе с тем российские власти в Туркестане проводили посланцев из Индии на родину, щедро одарив их и обнадежив, однако весьма "призрачно".
Все вышеизложенное свидетельствует о том, что Британская Индия и Русский Туркестан имели в рассматриваемый период весьма тесные и разнохарактерные связи, которые формировались в течение многих веков реального торгово-экономи-ческого, политического, культурного и иного взаимодействия. Однако во второй половине ХIХ - начале XX веков эти связи приобрели характер международных, межгосударственных отношений двух крупнейших мировых империй - Британской и Российской, соперничавших в борьбе за достижение преимущественного влияния в Азии.
В силу этого соперничества, применяя описанные средства и методы, Англия старалась подорвать позиции России в Средней Азии, а Россия - ослабить британские позиции в Индии. Однако, несмотря на всю остроту англо-русских противоречий, они разрешились мирно, что явилось следствием сближения глобальных внешнеполитических интересов двух держав накануне первой мировой войны и их реального союзничества в ходе таковой. Это обстоятельство сказалось благотворно на развитии связей между двумя регионами, как в предшествующие, так и в последующие исторические периоды.
Средняя Азия и Индия были связаны многочисленными путями, ведущими через Афганистан. Наиболее оживленным путем был путь Маргиана (Мерв)-Кушка-Герат-Кандагар. Имелась центральная система дорог от Амударьи к перевалам на Гиндукуше, далее в долину реки Кабул и затем к Инду. Здесь были два главных перевала - Бамианский и Чарикарский, преодолеть которые не составляло труда даже огромным массам войск.
Путь от Термеза до Кабула через Мазари-Шериф и Бамианский перевал составлял 600 км, что равняется расстоянию от Термеза до Ферганы, и караван проходил этот путь максимум за 20 дней.
Хотя Афганистан в ту эпоху не имел практически дорог, тем не менее, отмеченные пути позволяли легко преодолевать его территорию караванам, массам вооруженных отрядов и толпам кочевников.
Караванная торговля требовала сложного обслуживания. В городах и селениях строились караван-сараи, в них имелись худжры для купцов и обслуживающего персонала, помещения для лошадей и верблюдов, мулов и ослов, необходимый фураж и провиант.
Иногда в караван-сараях можно было продать или купить оптом товар, узнать коммерческие новости и цены. Существовали специальные купцы или даже компании, которые брали на себя перевозку товара, т. е. организацию транспорта. Вьючных животных обслуживали прислуга и проводники. Караваны имели при себе вооруженную стражу.
При караванах часто держали переводчиков (толмачей). Караваны насчитывали от нескольких десятков до нескольких тысяч вьючных животных. Например, в 922 году от халифа ал-Муктадира направился в страну Булгар караван в 3 тысячи единиц вьючных животных и 5 тысяч человек.
Значительную роль в развитии торговли играли кочевники-скотоводы. Они брались сопровождать караваны, предоставляли скот для питания и в качестве транспортного средства, и целые роды специализировались на караванной торговле. Караванная торговля не смогла бы развиваться без их участия.
Караваны были не только торговой организацией. Зачастую они везли ремесленников, художников, мастеров, ученых, путешественников, дипломатические миссии, иногда купцам поручались дипломатические дела. Так караван 922 года, кроме торговых целей, выполнял дипломатические, военно-технические и религиозные поручения. В составе посольства был тюрк и славянин, а также араб Ахмед ибн-Фадлан (секретарь посольства), который оставил свои записи.
Хорошо организованная охрана дорог и караванных путей стимулировала развитие внутренней и внешней торговли. Рассказывают, что хорезмийские купцы со своими товарами доходили до Андалузии и Китая. На каждом этапе этих дорог, в каждом крупном Центре от Испании до Китая имелись мусульманские общины, мечети, гостиницы, где принимали только мусульманских торговцев. И вскоре практи?чески на всех караванных дорогах и торговых центрах утвердились только купцы, принявшие мусульманскую веру. Мусульманские специалисты во всех сферах торговли, науки и письменности охотно принимались во всех государствах. Вскоре при всех дворах, во всех крупных центрах большинство военных советников, торговых агентов и специалистов по ирригации, а также ученые и астрологи были мусульмане. Группа древних корованных дорог вела через Кундуз, Файзабад, Читрал в долину Кунар. Расстояние здесь не превышало 500 км, и караван преодолевал этот путь за 15 дней.
По оценкам Ф. Броделя, в XVIII века разрыв в уровне развития Индии и европейских стран был еще не столь значителен - валовой национальный продукт на душу населения был вполне сопоставим с европейским, а индийские купцы, обладавшие крупным, достаточно устойчивым капиталом и корпоративными профессиональными организациями, контролировали значительную часть восточной торговли. Не была исключением и Россия - по меньшей мере, с XVII века существовала колония индийских купцов в Астрахани, причем этот город играл роль своеобразного "терминала" на "иранском" (через Иран и Афганистан) сухопутном пути в Индию, находившемся под контролем индийских торговцев. Индийская колония в Астрахани была достаточно многочисленной: по оценкам А. И. Юхта, ежегодно торговлю с Россией вели не менее 20-40 индийских купцов. Они прочно осели в России (в большинстве своем вели в Астрахани постоянную торговлю на протяжении 10-20 лет) и отличались высоким уровнем организации: в 1730-е - 1740-е года, три четверти объема "индийской" торговли (85,4% индийского импорта в Россию и 75,8% экспорта из нее) приходилось на долю крупных (с товарооборотом более чем на 1 тысячу р.) индийских купцов, которые составляли примерно половину индийских торговцев, - как отмечал А. И. Юхт, "такого высокого удельного веса крупного купечества не было ни среди торговых людей России, ни Закавказья и Ирана".
По сохранившимся данным за 1734-1745 годы среднегодовой объем торговли индийских купцов составлял 126.596 р., то есть более трети (35,6%) от среднегодового товарооборота европейско-восточной торговли через Астрахань (355.738 р.) за, примерно, аналогичный период. Он в 1,13 раза превосходил всю российскую восточную торговлю середины 1730-х - начала 1740-х годов через этот порт (с ее ежегодным оборотом в 112.288 р.).
К тому же Россия имела ярко выраженный пассивный баланс в "индийской" торговле - среднегодовой импорт индийских купцов в Россию за те же годы (90.553 р.) в 2,5 раза превышал среднегодовой вывоз ими товаров из нее (36.266 р.). Структура импорта была достаточно традиционной - в нем преобладал индийский текстиль и шелк. Заметное место занимала и торговля драгоценными камнями (вероятно, в значительной степени контрабандная).
Сложившееся положение, очевидно, вполне устраивало индийских купцов, но явно не устраивало Россию. Она стремилась к активной роли в русско-индийской торговле, и именно поэтому столь настойчиво искала прямые пути в Индию, которые могла бы хотя бы частично самостоятельно контролировать.
Складывающаяся из бесед с ташкентскими и индийскими купцами картина сулила неплохие перспективы. Разорившийся купец, Марвари Бараев, донес о четырех основных торговых путях в Индию, проходивших через Иран и заканчивавшихся в Гиляни, откуда открывался короткий морской путь в Астрахань. Два из них были ориентированы на морскую транспортировку груза и были, поэтому, гораздо длиннее, занимая в общей сложности 7-7,5 месяцев. Сухопутные пути: через Кандагар прямо на Гилянь и через Кабул транзитом через Среднюю Азию (Бадахшан, Бухару и Хиву) - существенно короче, требуя от 5 до 5,5 месяцев.
Дорога от Ташкента до Оренбурга должна была занимать примерно месяц (путь от Ташкента до Уфы определялся в 43 дня), от Ташкента до Бадахшана - 38 дней. Напрашивался (хотя Кириллов прямо и не делал его в апрельских донесениях) вывод о замыкании "кабульского" пути через Бадахшан на Ташкент и Оренбург (время нахождения в пути в этом случае должно было составить 4,5-5 месяцев).
Правда, почти две трети пути от Ташкента до Оренбурга (20 дней) караваны шли до первых кочевий Абулхаира, а следовательно, по полностью неконтролируемым Россией территориям, а ташкентских купцов интересовал весьма узкий спектр товаров из России (кармазинные лучшие сукна, красная юфть, "бобры немецкие", иглы и бисер), часть из которых были транзитными. Индийских купцов привлекал примерно тот же ассортимент, но с расшифровкой "лучших сукон" как голландских и английских - он отражал и структуру товарооборота, сложившегося в астраханской торговле. Все это определяло далеко не столь светлые перспективы развития русско-среднеазиатской и русско-индийской торговли, какие рисовались Кириллову. Серьезнейшей проблемой становились не только географические препятствия, но и безопасность сухопутных торговых связей - уже Ф. Беневини в своем отчете 1726 года обращал на это внимание, отмечая, что среднеазиатские торговые пути в Индию блокированы из-за политической нестабильности в центральноазиатском регионе...
С середины XIX века европейские деловые и политические круги прилагали значительные усилия для налаживания прочных экономических связей с Индией. Текстильные предприятия Европы нуждались в хлопке, а население готово было активно потреблять чай, кофе, рис и другие товары с Индостана. Иностранные компании не испытывали на индийском рынке никаких трудностей со сбытом или закупкой. Наиболее важной была проблема доставки грузов. До конца 60-х годов XIX века товары из Индии и в Индию шли морем вокруг Африки. С открытием в 1869 году Суэцкого канала этот путь существенно сократился, но поиск экономически выгодных маршрутов продолжался. Основное внимание стало уделяться проектам строительства железной дороги через территорию России. В общей сложности они разрабатывались более 50 лет, но так и не были осуществлены. Сегодня аналогичные планы выдвигаются вновь.
РБК. 20.03.2000. ПАКИСТАН ИЗУЧАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКАЗА В УКРАИНЕ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. Пакистан изучает перспективы заказа в Украине проектов строительства железной дороги на сумму 815 млн долларов, сообщает агентство УНИАН. Этот вопрос был обсужден во время встречи временного поверенного в делах Украины в Исламской Республике Пакистан Владимира Пономаренко с министром железной дороги Пакистана генералом Д.Ашрафом. Министр ознакомил украинскую сторону с двухэтапным планом реконструкции железной дороги и информировал, что Пакистан нуждается в замене 54% шпал и 57% рельсов (общая длина пакистанских железных дорог составляет 8831 км).
Одним из первых за постройку железной дороги в Индию высказался русский военный инженер Д. И. Романов. В 1857 году он предложил начать строительство рельсового пути из Самары через Оренбург к Аму-Дарье, предполагая связать его в Афганистане с английскими железными дорогами. Однако столь дерзкий план выходил далеко за рамки тогдашних российских интересов и потому был отвергнут правительством. Царские власти полагали необходимым прежде занять прочные позиции в Средней Азии, а уж потом обдумывать условия развития торговли с Индией. Тем не менее, Д. И. Романов настаивал на своем. К 1873 году он подготовил еще два проекта железной дороги от Волги до Инда (один - через Бухару и Афганистан, другой - через Персию), но оба они остались без внимания.
14 ноября 1916 года Генеральный консул России в Смирне А. Д. Калмыков направил начальнику II Политического отдела МИД A. M. Петряеву письмо с предложением о постройке рельсового пути через Афганистан в направлении Кушка - Герат - Кветта. Все работы он считал возможным провести в течение одного - двух лет. Для этого, по его словам, "в Индии есть запас рельсов и подвижного состава... и 300 млн. населения, почти не несущего воинской повинности". Введение дороги в строй, писал он, позволит России "получать из Индии хину, чай, кофе, каучук, хлопок и боевые припасы".
Проект А. Д. Калмыкова поддержал министр иностранных дел Б. В. Штюрмер, увидев в нем важнейшее средство развития англо-русского сотрудничества после войны. Однако договориться с Лондоном о реализации данного плана царское правительство не успело. В феврале 1917 года оно было свергнуто, а новые российские власти уже не возвращались к подобным разработкам. Приход же к руководству страной большевиков исключил саму возможность сооружения индо-европейской магистрали. СССР, в глазах Запада, не являлся для этого надежным партнером. Лишь с его распадом вновь проявился интерес к старой проблеме.
В начале 90-х годов государства Центральной Азии заявили о стремлении воссоздать "Великий шелковый путь", соединив свои железные дороги. Предпринятые ими усилия, завершились открытием в мае 1996 году участка Теджен - Сарахс - Мешхед, и на этом работы остановились, хотя до полного их завершения требовалось бы еще провести ветку от Кермана к одному из портов Оманского залива, либо напрямую связать иранскую и индийскую железнодорожные сети через Пакистан. Но сильнее в данном случае оказались взаимные разногласия, а не желание сотрудничества.
Положение может измениться, если интерес к этому вопросу проявит Россия. Дели уже сейчас предлагает Москве договориться о создании транспортного коридора через Аравийское море и Иран. Перспективы экономического сотрудничества с Индией, внутренний рынок которой сопоставим с рынком всех стран Европы, самые благоприятные, а потому к подобным инициативам с ее стороны следует отнестись с серьезным вниманием. Возрождение планов строительства российско-индийской железной дороги позволяет надеяться, что нынешний этап отношений между двумя странами завершится реализацией этой поистине вековой мечты.
Секретно
Копия
Программа наставления и вопросов среднеазиатским туземным разведчикам,
посылаемым для собирания политических и других сведений.
Наставление (примерное)
Вы, такой-то, посылаетесь в такую-то страну, которую мы мало знаем, для собирания о ней сведений. Для того, чтобы вам легче было собрать сведения, составлены вопросы, на которые вы, по своем возвращении, должны дать ответы. Постарайтесь хорошо понять эти вопросы и запомнить их, здесь же, на месте, чтобы не осталось ничего неясным.
Вы будете собирать по этим вопросам сведения от разных лиц, больших и малых, богатых и бедных, умных и несмышленых. Не будет, поэтому, вашей вины, если на некоторые вопросы ответы будут разные.
Передайте их только так, как вы их сами слышали, не прибавляя ничего от себя. Если на какие-либо вопросы нельзя будет ответить, то лучше не отвечать, сказав, что ответа нет, чем выдумывать неправду. За это на вас сердиться не будут.
Вы отправитесь по такой-то дороге, через такие-то города и места. Поезжайте не скоро, не тихо, а так, по тем переходам, как ходят караваны и ездят все путники. Старайтесь хорошо запомнить названия переходов и самую дорогу, по которой поедете, т. е. города, селения, реки, перевалы, которые вы на ней встретите. Все это нам нужно знать, чтобы исправлять и составлять карты всяких земель.
По приезде в страну, куда вы посылаетесь, вы назоветесь, как вам будет удобнее: или торговым приказчиком, приехавшим ознакомиться с базаром, или лицом, разыскивающим своих родствеников и должников, или богомольцем, идущим на поклонение к каким-нибудь святым местам... А если вы умеете рассказывать святые легенды, или узнавать судьбу людей по гаданиям, или отчитывать от дурного глаза и молитвами изгонять духов, или лечить какие-нибудь болезни людей и животных, то такое занятие будет для собирания сведений самое лучшее: вы будете иметь возможность узнавать много людей и часто с ними беседовать о том, что вам поручено узнать. Не скрывайте, однако, что вы русскоподданный. Если вы назоветесь подданным другой какой-нибудь страны, то такая ненужная ложь, если вас кто-нибудь узнает, испортит все дело и может подвергнуть вас опасности.
Не спешите собирать сведения тотчас же после вашего приезда в страну. Сначала осмотритесь, заведите знакомства. Все что можно видеть самому - смотрите сами, а не полагайтесь на рассказы других. Расспрашивайте неспеша, не все вдруг, о чем сказано в вопросах, а понемногу, при каждом удобном случае: у купца про товары, у служилого человека про порядки. Каждый ответ на ваш вопрос и каждый рассказ, который услышите, хорошо обдумайте, чтобы не было ничего для вас неясного или непонятного. Если вы грамотный и сведения можете записывать, но так, чтобы в случае, если у вас их отнимут, никто другой не мог бы их разобрать. Вам нужно поэтому записывать то, что вы узнаете... одним каким-нибудь словом, цифрою, значком, которые только бы вы слышали, узнали и видели. Прослушав все вопросы, вы поймете, что ничего тайного вам узнавать не поручают: обо всем, что сказано в вопросах, можно было спрашивать открыто, если бы народ той страны, где вы будете, был народ образованный; вы едете секретно и должны скрывать цель вашей поездки только потому, что народ этот не знает русских и не может понять, зачем нам нужны такие сведения, а потому всякого человека, желающего что-нибудь узнать о стране не для чего-нибудь другого, а часто для ее же пользы, считает своим врагом.
Вопросы.
1) Как называется страна, куда вы были посланы.
2) Какой народ в ней живет, оседлый или кочевой. Если и тот и другой, то какого больше.
3) Одного ли племени, или разных; какие племена; каких больше, каких меньше.
4) Какой веры жители; все ли одной веры, или разных; какой веры жителей больше.
5) На каком языке говорят жители; если на разных, то на каких, и какой язык у них общий.
6) Разделяется ли страна на округи; если разделяется, то сколько их. Как называются, кто ими управляет.
7) Не подчинены ли этой стране какие-либо местности со своими особыми владениями.
8) Если такие местности есть, то как они называются и кто в них правит.
9) Как называется главный город, в котором живет владетель страны.
10) Какие есть другие большие города.
11) Сколько примерно в стране городов, селений и жителей (больше или меньше и насколько, например, Ферганы или Кашгара. Это сравнение смотря потому, откуда сам разведчик).
12) Платят ли жители что-нибудь своему владетелю, или он имеет свои собственные земли и какие-нибудь особенные доходы, например, от рудных копий, от пошлины с привозимых товаров.
13) Если платят, то чем: деньгами, или продуктами, или службой в войсках, или всем вместе.
14) Сколько платят и как: поголовно, посемейно, поденно.
15) Тяжелы ли для жителей подати или нет, если тяжелы, то почему.
16) Сколько примерно в стране собирается дохода.
17) Чем занимаются жители - оседлые и кочевые.
18) Не существует ли у них каких других промыслов, кроме земледелия. 19) Если в стране есть какие-либо руды, то в каких местах они находятся, принадлежат ли они владетелям или самим жителям. Платят ли жители что-нибудь в казну за право их разработки и, если платят, то сколько.
20) Торгуют ли жители только между собою туземными продуктами или с другими, и какими именно странами.
21) Какие товары туда посылают и что оттуда получают.
22) Всеми ли товарами позволено торговать и, если не всеми, то какими товарами запрещено торговать.
23) Какие товары особенно нужны жителям: например, нужны ли ситцы, железо, мелочь и какая.
24) Есть ли в стране русские товары, если есть, то какие. Надо все их назвать.
25) Дорого ли они продаются против цен, например, в Фергане или Кашгаре (смотря потому, откуда будет разведчик).
26) Каких стран торговцы привозят русские товары и много ли этих товаров на базарах.
27) Есть ли товары английские, если есть, то какие. Надо все их назвать.
28) Дороже или дешевле они продаются против товаров русских. Надо узнать, сколько стоит каждый товар, например, ситцы, сукно, мелочь.
29) Каких стран торговцы привозят английские товары и много ли этих товаров на базарах.
30) Берут ли в стране пошлину за привозимые товары. Если берут, то одинаково ли за все товары или нет, и в каких случаях сколько за каждый товар.
31) В каких местах и сколько раз берут пошлину за привозимые товары.
32) Есть ли в стране рабы - мужчины и женщины. Если есть, то какие: захваченные ли во время войны или покупаемые.
33) Если рабы покупаются, то откуда их привозят, почем продают мужчину, женщину, ребенка и много ли рабов-мужчин в стране.
34) Какие деньги ходят в стране. Если денег нет, то что вместо них употребляется.
35) Не живут ли в стране англичане. Как их имена. Кто они такие: торговцы, священники или другие какие люди.
36) Какие владения окружают страну. Какие лежат от нее на полдень, на полночь, на восход и заход солнца.
37) По каким дорогам в эти владения возят товары, ездят и ходят люди, через какие города, селения, кочевки, места. Надо узнать названия всех переходов, на каждом пути, а если запомнить все названия трудно, то не забыть число переходов на каждой дороге от того города, где начинается дорога, до того, в который она ведет. Свои переходы разведчик, для памяти, может обозначать узелками на шнурке штанов.
38) Каким образом на каждой из этих дорог возят товары и ездят люди: на арбах, лошадях, мулах, ослах. Сколько пудов товара навьючивают.
39) Как ходят возчики: от какого и до какого места нанимаются везти товары, если по дороге сдают вьюки другим возчикам, то где именно. Сколько берут провозной платы от разных городов, между которыми проводится торговля.
40) Спокойны ли дороги. Не бывает ли на них разбойников и грабежей товаров. Если грабежи бывают, то ловят ли и наказывают разбойников или же владетель страны и жители не в силах этого сделать и ограбленный товар не разыскивается. Часто ли бывают случаи грабежей.
41) Кто владетель страны, какой его титул, как его зовут. Какого он племени и какой веры.
42) Давно ли он правит страною. Досталась ли ему страна по наследству, по выбору народа или он завоевал ее сам.
43) Если владетель завоевал страну сам, то каким образом: по желанию народа или силою и с чьей помощью.
44) Кто были прежние владетели страны и где они теперь находятся.
45) Владетель страны независим или кому-нибудь подчинен и, если да, то кому.
46) В чем заключается зависимость: платит ли он дань, сколько и часто ли, или должен помогать войсками, или исполнять что-либо другое.
47) Что обязан тот, от которого владетель зависит: должен ли он помогать войсками или дает деньги и сколько.
48) Как владетель правит страною: по шариату (если он мусульманин), или по какому иному закону, или по своей воле.
49) Каков его характер, нужно рассказать, как он живет.
50) Есть ли у него дети или родственники, живут ли они в дружбе или нет. Есть ли такие дети и родственники, которые бежали и живут в других странах и где именно.
51) Любит ли его народ, за что и, если не любит, то почему.
52) Не пытался ли народ свергнуть владетеля, если да, то когда, каким образом и что при этом случилось.
53) Откуда он принимает послов и часто ли.
54) Куда посылает своих послов и часто ли.
55) Не приезжали ли к нему русские и англичане в гости.
56) Если приезжали, то кто, как их называли и сколько.
57) Хорошо ли они были приняты владетелем или нет. Если нет, то почему.
58) Долго ли они пробыли в стране, в каких местах были, что делали.
59) Давали ли они подарки владетелю, какие, доволен ли он ими остался.
60) Что говорилось об этих гостях в народе; был ли он доволен их приездом или нет, если не был доволен, то почему.
61) Есть ли у владетеля страны постоянное войско или нет. Если постоянное войско есть, то сколько примерно человек - пеших и конных. Все ли это войско живет в одном городе или стоит по разным городам.
62) Откуда это войско взялось: составлено ли оно из жителей самой страны, или из рабов, или из людей другой какой-нибудь страны и какой именно, нанятых самим владетелем или ему по дружбе присланных другим владетелем, и кем именно.
63) Если войско составлено из жителей своей страны, то как оно набрано: с селений ли или отдельных домов, по желанию или силой, за плату или вместо подати.
64) Есть ли пушки. Если есть, то сделаны ли они в самой стране или привезены и откуда именно.
65) Чем солдаты вооружены. Имеют ли они, и все ли, ружья, пики, сабли. Если ружья имеют не все, то из скольких человек один вооружен ружьем. Какие ружья, сделаны ли они оружейниками самой страны или откуда-нибудь привезены и откуда именно. Если привезены, то как заряжаются: сзади или спереди.
66) Если у солдат есть ружья и пушки, то откуда они берут порох и пули - делают ли их в самой стране или привозят и откуда именно.
67) Сколько получает конный и пеший солдат за свою службу и чем получает: деньгами или пищей и одеждой.
68) Разделяется ли войско на отдельные команды с отдельными начальниками, одеты ли в одинаковое платье, обучаются ли военным порядкам или же ничего этого нет, и войско походит на сброд киргизских барантачей.
69) Если в стране постоянного войска нет, то как набирается войско на случай войны. Сколько таким образом может быть собрано солдат. Кто им дает оружие.
70) Не случалось ли войн, бунта, прихода чужих войск, присылки оружия, пушек, пороха, открытия заговора, приезда послов, казни родственников владетеля, приближенных к нему людей или других важных лиц. Обо всех этих случаях надо хорошо и подробно узнать, расспросив разных лиц.
Подписал: консул Н. Петровский.
С подлинным верно:
старший адъютант Генерального штаба подполковник Карцев.
РГВИА. Ф. 1396 "Штаб Туркестанского военного округа".
Оп. 2. Ед. хр. 2209. Л. 223-230 об.
Они оставили Читрал вариться в собственном соку
Дорога - это жизнь. Но пока, "ходить по горным дорогам" в Читрале англичан учили местные племена. В борьбе с горцами англичане нашли себе достойных союзников.
В XIX веке британские власти относились к переселившимся в Индию исмаилитам не просто терпимо, англичане активно поддерживали их. Династия имамов стала династией британских военных. Исмаилиты, из династии имамов, участвовали во многих индийских кампаниях английской армии, заслужив наследный титул принцев.
Британцы в Индии - это была особая порода людей - викторианцы. Они имели действительно какую-то особую несовместимость с индийцами, которых "легко могли бы понять, если бы поставили себя на их место", но именно этого викторианец не сделает никогда. Викторианец - это самоуверенный подтянутый человек, не знающий ни в чем слабинки, крайне дисциплинированный, с гипертрофированным чувством долга, прекрасно воспитанный джентельмен, придерживающийся в своей жизни самых строгих правил и семейных традиций, религия которого сводится к нескольким исключительно нравственного характера заповедям. Не удивительно, что викторианцы нашли общий язык с исмаилитами-низаритами, наследниками традиций ордена ассисинов.
Викторианский период, который обычно ассоциируется с подъемом в обществе христианских ценностей, в действительности не был эпохой веры. Может быть, правильнее было описать его как эпоху отсутствия веры - период, ознаменованный стремлением к разрушению веры.
Викторианская эпоха, не будучи эпохой веры, была, тем не менее, эпохой большой нравственной серьезности - культа хорошего поведения. Это была, как бы, секулярная религия.
Британскую Индийскую империю создавали люди именно такого типа и помимо прочего "империя была для них средством нравственного самовоспитания". Этот тип человека воспевался и романтизировался в имперской литературе. В смысле этой романтизации и героизации викторианской империи мать Р. Киплинга писала: "Что знают об Англии те, кто знают только Англию?". Возникал своего рода культ, обозначенный Луи Казамиан, как культ "воинственной энергии, суровой и по отношению к себе, и по отношению к другим, ищущий красоту в храбрости и справедливость лишь в силе".
Этот дух героического империализма и зарождался в Британской Индии тогда, когда в Англии наблюдалось "отсутствие веры в империю и отсутствие интереса к ее дальнейшей судьбе", и уже потом, в последней трети XIX в. "драма нового империализма была разыграна в тропических лесах, на берегах величественных рек, среди песчаных пустынь и на ужасных горных перевалах Африки. Это был его (нового империализма) триумф и его героическая трагедия". Индия же виделась "раем для мужественных людей" [Hutchins F.], стоически переносивших все трудности и опасности.
Здесь, в Индии, складывалась та идеология, которую Киплинг выразил в своем знаменитом "Бремени белого человека". И эти гордые англичане как будто на самом деле ощущали себя слугами покоренных народов. Они "чувствовали себя как бы докторами и ощущали какое-то мистическое стремление найти новых пациентов". Англичане творили себе "пациентов", по существу, творили в Индии "свой" мир. Среди англичан были такие люди, как Томас Маколей и С.Травелайен, стремившиеся "полностью переустроить индийскую жизнь на английский манер. Их энтузиазм был в буквальном смысле безграничен; они надеялись, что уже в пределах одного поколения высшие классы Индии примут христианство, будут говорить по-английски, освободятся от идолопоклонства и активно вольются в управление страной" [Hutchins F.]. Конечно, для разных англичан этот "свой" мир представлялся по-разному.
В 1890-х годах, во время пограничного спора России с Великобританией, Читрал обратил на себя внимание индо-британского правительства. В 1894 году, после убийства расположенного к Англии князя Низама аль-Мулька его братом Умра-Ханом, произошло возмущение против английской власти и английский гарнизон в Читрале был осажден. В следующем году из Джильгита двинулся английский отряд на освобождение читральского гарнизона. Умра-Хан бежал в Кабул, и с тех пор англичане беспрепятственно утвердились в Читрале.
"..Но имперское правительство отказалось иметь дело с новым претендентом и предупредило Умру Хана, что если он немедленно не покинет территорию Читрала, то будет отвечать за последствия. Ответом была война. Маленькие гарнизоны и рассеянные части британских войск подверглись нападению. Рота 14-го Сикхского полка была изрублена на куски. Форт Читрал, где укрылись остатки британской миссии и их сопровождающие, был осажден. Необходимо было спасти их. Армия в составе почти 16 000 человек пересекла границу, 1 апреля выйдя из Мардана, и двинулась на помощь по самой короткой дороге - через Сват и Дир, по линии современной Читральской стены. Командовать экспедицией было поручено сэру Роберту Лоу. Сэр Биндон Блад был начальником штаба.
И тут неожиданно правительство Индии, сделав удивленные глаза, воздвигло препятствие на том самом пути, которым оно столь долго следовало, ради которого оно сделало столько усилий и потребовало так много жертв от своих подданных. Вероятно для того, чтобы успокоить кабинет либералов, сделав вид, что оно пытается локализовать беспорядки и отказывается от приобретения новых территорий, оно выпустило прокламацию "всем жителям Свата и народу Баджана, которые не присоединились к Умре Хану", в которой было сказано, что индийское правительство "не имеет намерения навсегда занять ту территорию, через которую преступления Умры Хана могут вынудить его провести войска, а также не собирается попирать независимость туземных племен".
Прокламация, однако, не произвела никакого впечатления на туземцев, которые пришли в ярость, увидев солдат, и не обращали внимания на протесты правительства. Они собрались, чтобы воспрепятствовать проходу войск. Двенадцать тысяч туземцев заняли Малакандский проход - это была сильная позиция. Отсюда их выбили 3 апреля 1895 года, нанеся им большие потери, две передовые бригады армии сэра Роберта Лоу. Дорога на Читрал была открыта. Однако помощь осажденному форту уже подоспела из Гильгита. Умра Хан бежал в Афганистан, а перед правительством Индии встал вопрос о будущей политике.
Вопрос сводился к следующей альтернативе: либо отказаться от всяких попыток "эффективного контроля" над Читралом, либо поставить там достаточный для его защиты гарнизон. Следуя официальному политическому курсу, Совет единодушно решил, что поддержание британского влияния в Читрале является "делом чрезвычайной'важности". В депеше правительству метрополии члены Совета изложили все свои соображения и в то же время заявили, что держать гарнизон в Читрале невозможно, не удерживая дороги из Пешевара, по которой армия двигалась на помощь осажденным.
13 июня 1895 года кабинет лорда Роузбери дал решительный ответ, что "никаких вооруженных сил или европейских агентов оставлять в Читрале не следует, что Читрал не следует укреплять и что никакой дороги между Пешеваром и Читралом не надо строить". Тем самым британские власти окончательно и бесповоротно отвергли ту политику, которую правительство проводило с 1876 года. Они оставили Читрал вариться в собственном соку. Индийское правительство ответило: "Мы глубоко сожалеем, но покорно принимаем это решение" - и принялось собирать оборванные нити своей политики и плести новую паутину.
Но тут как раз либеральное правительство пало, и кабинет лорда Солсбери пересмотрел это решение. Новому совету министров "казалось, что от политики, столь успешно проводимой несколькими кабинетами подряд, не стоит столь поспешно отказываться, если только проведение ее не сделается очевидно невозможным". Таким образом, удержание Читрала было санкционировано, а дорога, которую это удержание делало необходимой, построена.
Описывая великие события, всегда бывает трудно проследить те тонкие скрытые процессы, которые во всех обществах предшествуют и готовят почву для яростных мятежей и восстаний. При попытке выявить причины великого мятежа племен в 1897 году эти трудности усугубляются еще и тем, что ни один европеец не способен проникнуться мотивами или встать на точку зрения азиатов. Однако этот вопрос обойти невозможно, и потому, хотя я и не знаком со всеми деталями, я попытаюсь указать наиболее важные и очевидные причины.
В течение тех двух лет, когда британский флаг развевался над Чакдарой и Малакандом, торговый оборот долины Свата увеличился почти вдвое. Местное население в большинстве своем вполне довольствовалось существующим положением, греясь в лучах всеобщего процветания и наслаждаясь вновь обретенным богатством и комфортом. За эти два года воинские части, сменявшие друг друга в Читрале, не сделали ни единого выстрела; не было украдено ни единого мешка с почтой, ни один посыльный не был убит. Политические чиновники свободно путешествовали среди свирепых горцев, и их часто приглашали для решения таких споров, которые в прошлом разрешались только силой оружия..."
Лучше нас про осаду форта Читрал и бои на Малаканском перевале рассказал сэр Уинстон Черчилль в своей "Истории Малакандской полевой армии", только что процитированной нами здесь. Прочтите, не пожалеете.
Не вырывать Индию у британцев, а заморозить ее торговлю.
Питер Хопкирк, в последних главах своей книги "Большая Игра против России: Азиатский синдром", так описывает последующий период в истории отношений между Англией и Россией. Именно в это период истории, Читрал был для России и Англии "незапертой дверью в Индию".
"...Британия пребывала в эйфории от новостей из Читрала, поскольку опасалась самого худшего. Майор медицинской службы Робертсон вернулся признанным политиком и восторженной королевой Викторией был посвящен в рыцари. Келли готовился к тому же, но вместо этого был назначен адъютантом королевы и получил орден Бани. Хотя рыцарства, которое он, как многие полагали, заслужил, Келли не получил, но остался в памяти солдат той армии обозников, с которыми совершал прославленный форсированный марш через горы.
Капитан медицинской службы Генри Витчерч, вынесший с поля боя умирающего офицера после неудачной разведки в начале осады, удостоился Креста Виктории. Кроме того, еще одиннадцать отличившихся англичан были награждены орденом "За выдающуюся службу". Наконец, орденов и наград были удостоены многие отличившиеся туземные офицеры и рядовые. Все, кто принял участие в деле, получили дополнительное жалованье за шесть месяцев и трехмесячный отпуск. Возможно, все это, в самом деле, было лишь "незначительной осадой", как скромно обозначил в подзаголовке своего отчета о ней Робертсон, но со временем выяснилось, что среди тех, кто принял в ней участие, - будущий фельдмаршал, по крайней мере девять будущих генералов и множество рыцарей. С точки зрения карьеры Читрал оказался явно подходящим украшением их послужного списка.
Теперь возник острый вопрос: что делать с Читралом? Будет ли он аннексирован, подобно Хунзе, или восстановлен независимым под властью дружественного Британии правителя? Эта проблема стала предметом горячих дебатов в военных и политических кругах, и сторонники "наступательной школы" неизбежно вступили в конфликт с теми, кто одобрял "умелое бездействие". Хунзу заняли, чтобы защитить ее от российского вторжения, не поступить ли так же и с Читралом?
Но как раз за прошедшие месяцы условия в памирском регионе резко изменились. Почти незаметно на фоне драматической осады Лондон заключил с Санкт-Петербургом договор, который окончательно установил границу между российской Центральной Азией и Восточным Афганистаном. Памирское "окно", так долго волновавшее британских стратегов, наконец, закрылось.
С согласия Абдурахман-хана узкий коридор земли, который раньше никому не принадлежал и простирался в восточном направлении до китайской границы, стал теперь афганской суверенной территорией. Не превышая в некоторых местах и десяти миль в ширину - минимальное расстояние между Британией и Россией в Центральной Азии, - этот коридор гарантировал, что их границы нигде не соприкоснутся. По общему признанию, он гарантировал русским постоянную власть над большей частью памирского региона. Англичане знали, что, если Санкт-Петербург решит захватить остальную часть этого региона, они будут фактически бессильны это предотвратить. Но, по крайней мере с британской точки зрения, теперь существовала официально признанная граница, за пределы которой Санкт-Петербург продвигаться не мог - за исключением, конечно, боевых действий в случае войны.
(Примечание: На основании договора 1893 года в 1894 и 1896 годах была проведена демаркация границы на всем ее протяжении. Из-за высокогорных условий местности остались недемаркированнымк лишь два участка: в районе Хайберского перевала и вдоль хребта Гиндукуш. Линия границы, установленная договором 1893 г., была подтверждена между Афганистаном и Великобританией от 8 августа 1919 г. и англо-афганским договором от 22 ноября 1921 г. Государственная граница, - установленная в 1893 г. по "линии Дюранда" практически не претерпела каких-либо изменений в XX веке, за исключением незначительных исправлений, которые были сделаны в районе Хайберского перевала в 1919 и 1921 годах, а также у населенного пункта Аранду (в районе Читрала) в 1932-1934 годах)
Это урегулирование, естественно, имело тесную связь с вопросом о Читрале. "Наступательная школа" утверждала, что, раз новые границы подпустили русских еще ближе к перевалам, ведущим к Читралу и Северной Индии, надо держаться за территорию крепче, чем когда-либо. Индийское правительство также присоединилось к этой точке зрения, сообщив Лондону, что предлагает разместить в Читрале постоянный гарнизон и проложить к нему стратегическую дорогу от Пешавара через перевал Малаканд. Единственный дополнительный путь для переброски войск на случай кризиса из Индии в Читрал проходил через Гилгит, но даже поздней весной, как обнаружил Келли, этот проход все еще заваливало снегами, и действовала только дорога из Индии до Гилгита. Однако, несмотря на эти аргументы в поддержку сдерживания, либеральный кабинет лорда Росбери уже принял решение, вызванное, прежде всего, нежеланием снова угодить с Читралом в затруднительное положение. Правительство метрополии аннулировало решение Калькутты, и теперь в Читрале не должно было остаться ни войск, ни политических советников. Среди причин, объяснявших такой шаг, называли чрезмерность затрат на содержание гарнизона, а также на строительство и защиту дороги, которая проходила бы через двести миль враждебной территории, контролируемой пуштунами. Более того, Лондон утверждал, что такая дорога может стать обоюдоострым оружием и использоваться равно как защитниками, так и захватчиками.
Но менее чем через два месяца постановление было неожиданно отменено: либералы утратили власть, и на Даунинг-стрит вновь вернулся лорд Солсбери. И что еще важнее для Индии - помощником министра иностранных дел был назначен Керзон. Он-то и сумел убедить премьер-министра в необходимости "спасти" Читрал, предупредив о вероятности его захвата русскими в случае ухода Британии. Кроме того, настаивал Керзон, уход англичан будет расценен пограничными племенами как признак слабости, особенно в свете памирских приобретений русских. Мятежи и межплеменные свары, уже начавшиеся в некоторых северных районах, только усилятся, если уйти из Читрала, - у туземцев наверняка появится уверенность, что англичан можно изгнать. Аргументы Керзона взяли верх, и Читрал было решено сохранить. Там разместили постоянный гарнизон, состоящий из двух батальонов индийской пехоты, горных батарей и саперов, а еще два батальона охраняли перевал Малаканд и другие важные точки по дороге на север.
"Ястребы" одержали победу, и позднее выяснилось, что они были правы, требуя сохранить Читрал. Весной 1898 года на позициях на Памире один из офицеров 60-го пехотного полка - капитан Ральф Коббольд узнал от соседа, русского офицера-пограничника, что у них есть приказ немедленно захватить Читрал в случае эвакуации британцев. Были разработаны "очень подробные планы" в расчете на такую возможность, и русский офицер тайно посетил Читрал, чтобы изучить систему обороны и маршруты подхода. Информатор Коббольда добавил, что планы захвата Читрала "постоянно обсуждаются за обеденным столом у губернатора Ферганы", а другие русские офицеры говорили, что рассматривают настоящую границу с Афганистаном как "чисто временное соглашение" и "ни в коем случае не постоянное".
Коббольда очень впечатлило то, как хорошо русские информированы о режиме и обустройстве на британской и афганской сторонах границы. Он объяснял это "интенсивной системой шпионажа, которую ведет российское правительство вдоль границ Индии", и добавлял: "Доверенные люди инкогнито постоянно снуют между русской границей, Кабулом и Читралом, собирая и передавая всевозможную информацию, касающуюся вопросов безопасности". Русские офицеры, которых он встречал, "все ждут воины с большим нетерпением", - сообщал он. Как уже отмечалось раньше, служившие на границе русские офицеры часто вели разговоры о войне. Это было одним из способов поддерживать моральный дух.
Разработка же планов нападения и сбор разведданных - просто часть рутинной работы штабных офицеров в большинстве армий. Более того, позволяя каким-то сведениям достичь ушей британцев, они успешно вынуждали их держать в Индии больше войск, чем требовалось на самом деле. Это было частью Большой Игры. Русские получили все, что хотели. Они не только сохранили обширное южное пограничье, но и оказались бы в выгодном положении, если бы дело дошло до войны с Британией. После вековой экспансии царская империя в Средней Азии наконец достигла своих пределов. Но англичане, которых в прошлом так часто водили за нос, были в этом еще далеко не убеждены. В Большой Игре еще предстояло провести последний раунд. В который раз Игра опять сдвинулась на восток - теперь на Тибет, таинственную землю, долгое время закрытую для иностранцев и защищенную от любопытных взоров самыми высокими горами на свете...
...Англичане еще не осознали, что мысли нового царя Николая занимали сейчас куда более грандиозные видения, чем аннексия Читрала или даже завоевание Индии. Под влиянием своего министра финансов графа Витте он мечтал открыть для России весь Дальний Восток с его обширными ресурсами и рынками, прежде чем те достанутся другим хищникам. Таким образом, тот стал бы его Индией, а Россия существенно увеличила бы свою экономическую и военную мощь. Витте знал, как подогреть мечты своего суверена о золотом будущем России. "От берегов Тихого океана и высот Гималаев, - заявлял он, - Россия будет доминировать не только над делами Азии, но и Европы тоже". И хотя его главный проект значительно увеличил бы ресурсы России, это не влекло за собой никакого риска, тем паче прямой угрозы войны - так он, по крайней мере, думал. Пытаться вырвать Индию у британцев - одно, а заморозить ее торговлю - совсем другое.
План Витте предполагал строительство самой большой в мире железной дороги. Она должна была протянуться на 4500 миль через Россию, от Москвы на западе до Владивостока и Порт-Артура на востоке. И работа уже началась одновременно с обоих концов будущей магистрали, хотя ее завершения не ждали еще по крайней мере лет двенадцать. Витте высчитал, что по окончании строительства магистраль будет способна перевозить товары и сырье из Европы до Тихого океана и обратно вдвое быстрее, чем морским путем. Таким образом, рассуждал он, это привлекло бы не только российские, но и зарубежные торговые перевозки, тем самым серьезно угрожая конкуренцией морским маршрутам - артериям британской экономики. Но было еще и нечто гораздо большее. Железная дорога дала бы возможность России эксплуатировать огромные, но все еще неиспользованные ресурсы неприветливых и пустынных районов Сибири, через которые она пройдет. Жителей перенаселенных районов европейской России можно было бы перевезти по железной дороге на работу и ее строительство на востоке, а также на заселение новых городов, которые вдоль нее возникнут. Ее роль могла оказаться решающей и во время войны, поскольку по рельсам без риска вмешательства флотов Британии или любой другой страны можно со скоростью 15 миль в час гнать войска и боеприпасы в восточном направлении, к Дальневосточному театру военных действий.
Но не только этим Витте соблазнял впечатлительного Николая, расписывая картины будущего. В 1893 году, за год до вступления Николая на престол, проницательный санкт-петербургский буддистский лама, бурят-монгол по имени Петр Бадмаев, представил Александру III честолюбивый план привести под российскую руку часть китайской империи, включая Тибет и Монголию. Это можно было сделать, уверял он Александра, без риска войны и сравнительно недорогой ценой, разжигая массовые восстания против уже ослабленных и всеми нелюбимых маньчжур. Для этого он предложил основать под своим руководством торговую компанию, чья истинная цель будет состоять в том, чтобы подстрекать тамошние народы выступить против иностранных правителей.
Впрочем, Александр план отверг, сказав: "Это так фантастично... что трудно поверить в возможность успеха". Но графа Витте это не остановило: после смерти Александра он использовал план для пробуждения экспансионистских мечтаний у Николая. И, похоже, в этом преуспел. Была основана компания Бадмаева с начальным капиталом в два миллиона рублей, а Николай высказал своему военному министру генералу Куропаткину пожелание прибавить к российским владениям Тибет. Примерно в это время в Калькутту стало поступать все больше донесений о тайных российских агентах, обычно бурят-монгольских подданных царя Николая, путешествующих между Санкт-Петербургом и Лхасой. Все они, по-видимому, были связаны с таинственным Бадмаевым.
Совпадение это или нет, неважно. Значение махинаций Бадмаева на Тибете оттеснило на второй план события в Монголии. Там, в Монголии, в другом районе Дальнего Востока, главные европейские державы были заняты схваткой за обломки умирающей Маньчжурской империи, а заодно и всего, что попадется под руку. Первыми в наступление двинулись немцы, стартовавшие в колониальной игре последними, - они опасались, что другие страны монополизируют рынки и ресурсы всего мира. Для начала они постарались заполучить где-нибудь на северном побережье Китая военно-морскую базу и станцию загрузки углем для своего нового дальневосточного флота.
Убийство китайскими бандитами в ноябре 1897 года двух немецких миссионеров дало им для этого предлог. Карательные войска, посланные кайзером Вильгельмом, захватили окрестности Кяочоу, известного впоследствии как Циндао, на который, кстати, к тому времени уже положили глаз русские. У Пекина не оставалось выбора, и он предоставил Германии в аренду на 99 лет и базу, и соответственные угледобывающие и железнодорожные концессии. В ходе последующих столкновений выгодные концессии заполучили Англия и Франция, а Россия, изображая из себя защитника Китая, получила незамерзающую военно-морскую базу Порт-Артур и прилегающие внутренние районы. Несколько позже Россия добилась еще одной важнейшей стратегической уступки - согласия связать железной дорогой Порт-Артур с наполовину законченной Транссибирской магистралью. Соединенные Штаты также ввязались в дальневосточную схватку, приобретя в 1898 году Гавайи, Уэйк, Гуам и Филиппины, на овладение которыми претендовали также Россия, Германия и Япония..."
Английская интервенция в Тибет 1903 - 1904
Злоупотребляя талантом Питера Хопкирка, как умелого рассказчика, мы не нашли ничего лучше, как просто процитировать его рассказ о английской интервенции в Тибет.
"...Пока все это происходило, Вице-королем Индии был назначен отъявленный русофоб Джордж Керзон. Успевший к 39 годам получить звание пэра, он достиг тем самым воплощения своей детской мечты. Взгляды Керзона по поводу российской угрозы Индии были прекрасно известны. Он был убежден, что конечная цель устремлений Санкт-Петербурга, к которой русские двигались шаг за шагом, - господство во всей Азии. Это был безжалостный процесс, которому следовало противостоять на каждой стадии. "Если Россия имеет право на эти амбиции, - писал Керзон, -- то Британия имеет еще большее право, нет, она просто обязана защищать свои приобретения и противостоять даже незначительным вторжениям, которые являются только частью большого плана". Он был уверен, что остановить российский паровой каток можно только твердым противостоянием. "Я не считаю, - объявлял он, - что неодолимая судьба влечет Россию к Персидскому заливу, Кабулу или Константинополю. К югу от определенной линии в Азии ее будущее в большей степени зависит от наших, а не от ее собственных действий". Едва ли надо говорить, что его назначение вице-королем встревожило Санкт-Петербург. Персию, особенно район Персидского залива, Керзон рассматривал как область, особенно уязвимую для дальнейшего российского проникновения.
Санкт-Петербург уже стал проявлять интерес к приобретению порта в районе Персидского залива и даже к постройке для шаха железной дороги от Исфахана до побережья. "Мы обеспокоены, - писал Керзон в апреле 1899 года министру по делам Индии лорду Гамильтону, - тем, что к необходимости защиты Индии от российского сухопутного нападения добавляется угроза нападения морского". Он убеждал кабинет: надо дать совершенно ясно понять и Санкт-Петербургу, и Тегерану, что Англия не потерпит никакого - кроме ее собственного - иностранного влияния в Южной Персии.
Проявляли интерес к Персидскому заливу не только русские - вызов британскому превосходству там начинали бросать и Германия, и Франция. Кабинет, однако, не проявлял чрезмерной озабоченности, что побудило Керзона написать Гамильтону: "Надеюсь, лорда Солсбери все же можно убедить пошевелить мизинцем, чтобы сохранить Персию... Мы медленно - нет, я думаю, что надо уже говорить стремительно, - движемся к полному исчезновению нашего влияния в этой стране ". Волновал Керзона и Афганистан, несмотря на давнишнее британское соглашение с Абдурахман-ханом и урегулирование северной границы с Россией.
Причина заключалась в том, что в Калькутту начали поступать сведения о том, что российские чиновники в Транскаспии, в частности губернаторы Ашхабада и Мерва, пытались - наверняка с ведома Санкт-Петербурга - связываться с эмиром напрямую, а не через Министерство иностранных дел в Лондоне. В конкретном случае Абдур Рахман русским отказал, и кризис был предотвращен. В то же время центр Большой Игры переместился в Тибет. В Индии стало известно, что дважды за двенадцать месяцев эмиссар далай-ламы посетил Санкт-Петербург, где был тепло принят царем. Русские всегда утверждали, что приезды и передвижения этого эмиссара - бурят-монгола по имени Агон Дорджиев - вызваны только религиозными причинами, без какого-то политического подтекста. Действительно, нельзя отрицать, что среди подданных царя, в частности бурят Южной Сибири, было немало буддистов тибетской школы. Что же может быть естественнее, чем духовные контакты между христианином - главой многоконфессионального государства - и буддистом? Но Керзон полагал, что не все так просто. Он был уверен, что Дорджиев - далеко не просто монах-буддист, и от имени царя Николая он действует против британских интересов в Азии. Когда подтвердилось, что Дорджиев - близкий друг Петра Бадмаева, который стал теперь советником царя по тибетским делам, подозрения Керзона окрепли. Вся правда, скорее всего, так никогда и не станет известна, хотя большинство ученых нынче полагают, что опасения англичан были в значительной степени необоснованными: Николаю досаждало слишком много его собственных проблем, чтобы думать о Тибете. Однако респектабельный немецкий путешественник и знаток Средней Азии Вильгельм Фильчнер утверждал, что между 1900 и 1902 годами Санкт-Петербург использовал любые средства, чтобы склонить Тибет к союзу с Россией..."
В книге "Буря над Азией: из жизни секретного дипломатического агента" (издание 1924 года) Фильчнер подробно описал действия бурят-монгола по имени Церемпил, человека даже более таинственного, чем Бадмаев или Дорджиев, с которыми, оказывается, он был тесно связан. Среди прочего Фильчнер утверждает, что Церемпила активно использовал "индийский отдел" российского генерального штаба для организации поставок оружия в Тибет. Если Церемпил, который, как считают, действовал под разными именами и личинами, существовал на самом деле, то он сумел остаться неразоблаченным британскими разведывательными службами - упоминания о нем в архивах того времени отсутствуют.
Несколько цитат из книги Гордона "The Roof of the World". 1877.
"...21 марта 1874 года доктор Столичка, я и капитаны Биддольф и Троттер выехали из Янги-гиссара в Сириколь и Вахан. Все число наших спутников, считая и нас самих, простиралось до 41 человека, имевших при себе 58 верховых и вьючных лошадей. Нас сопровождали юзбаши Рустам и пять кашгарских солдат, которые вместе с пятью пенджабскими сипаями составляли наш конвой до Вахана и обратно. Впереди нас ехал рейсайдар Мухамед-Афзал-хан, отправившийся предварительно с письмом к правителю Вахана, мир-фатех-Али-шаху, которым тот извещался о предположенном нами посещении его. Мухамед-Афзал прибыл в Кила-Пяндж, столицу Вахана, 2 апреля и превосходно распорядился всем, что было нужно нам по приезде туда....
...Число жителей Вахана, говорят, очень уменьшилось в последние годы. Прежде тут было до 1. 000 семей, но теперь не более 500, составляющих около 3. 000 душ. Есть большая колония ваханцев в округе Санжу, около Яркента, а 50 семей, как сказывали нам, переселились в Сирикольскую долину в правление мира Фатех-Али-шаха. Народ, как и правитель, очень бедны, но они имеют репутацию скупости, особенно относительно денег. Они похожи по наружности на сирикольцев и также считают себя потомками пришельцев с разных сторон. Они шииты и считают Ага-хана бомбейского своим, духовным главою, которому посылают ежегодно десятую часть всех произведений их земледелия и скотоводства. Эта уплата делается также населением всех соседних владений: Шигнана, Рошана, Читрала, Мунжана и Санглича...
...Канжутцы суть шииты, но мало обращают внимания на свои религиозные обязанности, как доказывается их любовью к вину, музыке и танцам. Вино выделывается из виноградных лоз и тутовых ягод, которые роскошно созревают в глубине жарких долин или оврагов Канжута. Канжутцы не платят, ничего своему духовному главе, Ага Хану бомбейскому. Страна их разделяется на две маленькие владения, Ханзу и Нагар, находившиеся в последнее время во враждебных одно к другому отношениях. Население обоих сходно по характеру и вере. Оно имеет дурную репутацию у соседей, как разбойников, изменническое, жестокое и трусливое.Канжутцы суть работорговцы...
...Рабство продолжает быть проклятием многих шиитских владений, окружающих Бадакшан. Не смотря на запрещение эмиром кабульским, безжалостная торговля людьми, со всеми сопровождающими ее преступлениями и жестокостями, процветает. Мужчина ценится одинаково с женщиной, и продажная цена каждого из них простирается от 75 до 115 рублей, или 10 быков, 5-8 яков, или 2 киргизские ружья. Открытая продажа, конечно, прекращена; но ничего не сделано, чтобы прекратить ее в действительности. Занятие афганцами Бадакшана имело, впрочем, то хорошее последствие, что уничтожило уплату дани людьми, которая прежде требовалась и вынуждалась сунитскими мирами от их вассалов, владевших шиитскими подданными. Фатех-Али-шах говорил мне, что дань, уплаченная им в сентябре 1873 года, впервые не имела в составе своем рабов. Покойный правитель Шигнана, Мухамед-хан, в четыре года своего царствования, продал в рабство большое число своих подданных. Он умер в 1869 году, и ему наследовал теперешний шах,Юсуф-Али, который не только прекратил обращение народа в рабов, но и отказался платить рабами, дань Бадакшану, так что ныне она выплачивается лошадьми. Нам сообщали, что во время отсутствия мира Вали, многие из обитателей Ясина и Мастуча проданы в рабство по приказанию Аман-уль-Мулька читральского, и что один купец вывез недавно около ста рабов. Когда мир Вали, во время нашего посещения Вахана, был в Банхе, он рассказал губернатору, что многие из его подданных были проданы в Бадакшан, и получил позволение напасть на работорговцев для освобождения пленников. В конце мая он, действительно, напал на рабовладельческий караван у Зебека и освободил многих из своего народа...
...Большой и Малый Памиры долго не служили пастбищами киргизам и ваханцам единственно по причине известий о раздорах, нападениях и отместках, которые там производила работорговля. Людопохитители из канжутцев, киргизов,шаганцев и ваханцев нападали и раззоряли одни других до такой степени, что эта открытая страна была покинута всеми, и каждый старался оставаться в своих замкнутых долинах. Жадность иногда заставляла даже шиита похищать шиитов же, чтобы продать их сунитам, которые обращение в рабство "проклятых еретиков", разумеется, считают похвальным делом. От того в былое время купцы могли появляться на Памир только большими, хорошо вооруженными партиями. Но этот порядок вещей ныне сменяется миром и безопасностью. Купцы, теперь, переходят через Памир во всякое время года мелкими группами, без малейшего опасения. И соседние государства делают все, возможное, чтобы предотвратить возвращение старого хищничества и беззаконий. Выше я привел пример международных жалоб между подданными Вахана и Кашгара и рассказал, как беспорядок был подавлен: репутация аталыка, как быстрого и строгого карателя всяких беспорядков, много значит в этом деле и показывает, как полезно установление сильного правительства между народами грубыми и неоседлыми...
...Рассказ Рузуллы, уроженца Джаму, бывшего солдатом на службе магарадьи кашмирского, попавшегося в плен к канжутцам, которыми был продан в рабство. История его плена и освобождения собственными его словами:
"...Девять или десять лет назад я был одним из 80 кашгарских солдата, которые держали гарнизон в укреплении Чаброте, в Ханзе. Здесь находилось также много канжутов, которые, согласившись между собою, в расплох напали на нас и забрали в плен. Четверо из нас, именно три индуса и один мусульманин, были убиты в стычке. Мы были распределены между победителями и проданы как рабы. Я достался одному тагдунгбашскому киргизу и провел с ним три года на Тагдунгбаше и в Сириколе, после чего он променял меня одному алайскому киргизу на верблюда. Я отправился с новым моим хозяином на Алай через Тагарму и Кизыл-арт, где меня посылали пасти коров и овец. Становясь стар и слабее, правитель алайских киргизов, Тимур, сын Ашнадыра, возвратил мне, через шесть лет, мою свободу и отослал с некоторыми из своего народа в Кашгар. Мы остановились в доме Абул-Рахмана, к которому Тимур нас направил. Тот спросил меня - откуда я родом, я отвечал - из Индии, на что он мне сказал, что теперь есть англичане и с ними индустане. Я отправился к ним и нанялся в мою теперешнюю должность". Рузулла был в последствии отправлен на Ак-таг, по дороге из Яркента к Каракораму, для склада там запаса и провизии, нужной для обратного нашего путешествия и, наконец, сопровождал нас в Кашгар. Его показания относительно Тагдунгбаш-Памира сходятся со сведениями, прежде того добытыми господином Шау.Теперешнее укрепление Таш-курган построено войсками аталыка-гази из камня и глины и занимает положение, господствующее над развалинами древнего Варшиди. Оно служит местопребыванием окружного управителя,Хассан-шаха, энергического, решительного человека, родившегося, как говорят, в Каратегине. Он выказал чрезвычайную подозрительность относительно нашего вступления в форт и объяснил вежливо, но твердо, что не желает, чтобы туда входил кто-нибудь из нас. Когда он встретил нас, при нашем прибытии, то проводил с церемониею в приготовленный для нас лагерь из войлочных юрт, в небольшом расстоянии за фортом, постаравшись впрочем провести окольною дорогою, так-как прямая, проходит под стенами укрепления. При отъезде его я выразил желание отдать ему визит в тот же день и спросил о времени; когда это будет удобнее для него, но он поспешил просить нас не беспокоиться, прибавив, что мы, как гости, должны быть посещаемы им, а не обратно. Я принял это за условную фразу вежливости и послал после полудня нашего юзбаши сказать ему, что, если ему приятно, я готов посетить его теперь же. Это заставило его тотчас же прибыть к нам в лагерь, Мы стояли около Таш-кургана два дня, и перед отъездом я опять послал юзбаши предложить управителю мой визит, но результат был прежний: он сам пришел повидаться с нами и сказал, что ему стыдно принять нас в таком бедном помещении, каково даже самое лучшее в укреплении, и просил не думать об отдаче визита, прибавив, что и то уже большая честь для него, что мы хотели его посетить. Это, вместе с замечанием, которое он сделал одному из наших слуг, зашедшему в форт, убедило нас отказаться от всякой попытки снять вид древних развалин с расстояния более близкого, чем несколько сот шагов. Мы, впрочем, прошли через эти развалины по дороге в Вахан и достаточно видели их, что бы составить о них понятие...
...Мы не испытали на Памирах признаков большой высоты, т. е. головокружения и трудности дыхания, в той степени, как об этом писали туземные путешественники. Никто из наших спутников не страдал чем-нибудь необычным в дороге, кроме естественной одышки, которая бывает после всякого сделанного усилия. Никто не чувствовал головокружения, кроме нашего дворецкого, который неизменно заболевал, когда барометр показывал высоту 12.000 футов. Затем все мы были совершенно здоровы. Только один из ваханцев, сопровождавших нас на пути через Большой-Памир, умер от разрыва сердца на последнем переходе к Ак-Ташу, и это был единственный случай смерти между множеством людей, перебывавших в нашем лагере при переходах через Памир, взад и вперед. Все уроженцы Индии хорошо работали вместе с нами и были веселы, не смотря на сильные холода..."
Всякий раз, когда Гордон говорит об кашгарском эмире или об афганцах, его симпатии заранее направлены к ним, как союзникам Англии в Средней Азии. Это показывает, как английскому писателю хочется, чтобы был если не афганским, то хоть кашгарским вассальным владением. Заключающегося в этом противоречия и вытекающего из него естественного заключения о самостоятельности Вахана, автор книги не замечает.
Из записок Гордона следует, что Памирские земли были ничьи. Спутник Гордона, Биддольф готов однако был, в 1874 г причислить их к владениям ваханским , т. е. бадакшанским или афганским, что давало возможность считать, что два сильнейшие государства Средней Азии, Афганистан и Джитышар, прикасаются одно к другому и следовательно, составляют непрерывную ограду Индии с северо- запада. Гордон, как видно из содержания книги, этого тенденциозного известия не повторяет...
Возможно, скорее поведение самих тибетцев, чем русских, убедило нового вице-короля, что между Лхасой и Санкт-Петербургом происходит нечто закулисное. Дважды он писал далай-ламе, поднимая вопрос о торговле и прочих делах, но каждый раз письмо возвращалось нераспечатанным. Похоже, тибетский богоравный властитель в самом деле был в превосходных отношениях с русскими, так начинали утверждать даже санкт-петербургские газеты. Керзон искренне переживал, что за его спиной готовится некое секретное соглашение, да еще и оскорблен был тем пренебрежением, которое выказал если не к его персоне, то к его посту "политический миф" - так называл он далай-ламу. К началу 1903 года он пришел к убеждению, что единственным способом узнать правду о российских действиях и перевести британские отношения с Тибетом на твердую и надлежащую основу будет посылка в Лхасу специальной миссии, даже если индийскому правительству придется применить силу.
Керзон понимал, что правительство метрополии, которое только что выпуталось из унизительной и непопулярной войны с бурами, откажется предпринимать какие-либо серьезные действия на дальних задворках Российской империи. Но в апреле ему удалось получить санкцию кабинета на отправку для начала переговоров сопровождаемой эскортом небольшой миссии в Хамба Джонг, в самое сердце Тибета. Выбирая кандидатуру политического советника, который возглавит миссию, Керзон остановился на ветеране Большой Игры майоре Френсисе Янгхасбенде, который теперь в сорок лет занимал полковничью должность...".
Фрэнсис Эдуард Юнгхасбенд - выдающийся британский разведчик и путешественник. Родился 31 мая 1863 году в городке Мюрри в Северо-Западной пограничной провинции Британской Индии. В 1876 году поступил в Клифтон-колледж, а по его окончании в Королевский Военный колледж в Сандхерсте. Окончив в 1882 году Сандхерст, Фрэнсис Юнгхасбенд был произведен в младшие лейтенанты и получил назначение в 1-й гвардейский полк Королевских драгун в Дели. В 1886-1887 годах он пересек Центральную Азию из Пекина в Яркенд. По пути исследовал хребет Мустаг на Южном Памире и Каракорум. Впоследствии совершил еще две экспедиции на Памир, на Памире встречался с русским разведчиком Брониславом Громбчевским. Деятельность Юнгхазбанда в значительной мере способствовала разгоранию Памирского кризиса на рубеже 1890-хх годах.
В 1903 году вице-король Индии лорд Керзон уполномочил Юнгхасбенда в сопроводжении военного эскорта провести переговоры с тибетскими правителями по вопросам торгового и пограничного урегулирования. Когда попытки Юнгхасбенда ни к чему не привели, англичане под начальством генерал-майора Д. Макдональда атаковали страну. Тем не менее, и вторая попытка переговоров провалилась. Англичане предприняли новую военную экспедицию во главе с Юнгхасбандом. Он штурмом взял столицу Тибета Лхасу и вынудил Далай-ламу заключить торговый договор. За эту операцию Юнгхасбенд был посвящен в рыцары.
В дальнейшем он отошел от практической деятельности и продолжал сотрудничество лишь с Королевским Географическим обществом. Умер в 1942 году.
ДАТЫ
СОБЫТИЯ
1903.12
Английский экспедиционный отряд полк. Ф.Янгхасбэнда с территории Индии вторгся в Тибет через перевал Джелоп и осадил кр. Гуантзе.
1904.01
Гуантзе. Английские войска после месячной осады взяли тибетскую крепость.
1904
На перевале Каро-Ла произошло самое высокогорное в мировой истории войн сражение между плохо вооруженными тибетцами и англичанами. Трехтысячный тибетский отряд с помощью камней и допотопных ружей заставил англичан отступить. Только поднявшись на высоту 5800м и полностью используя свое преимущество в вооружении, англичане смогли выбить тибетцев с перевала.
1904.08.03
Лхаса. Английский экспедиционный отряд полк. Ф.Янгхасбэнда занял столицу Тибета. Далай-лама бежал в Монголию.
1904.09.07
Лхаса. Подписан договор между Великобританией и Тибетом о демаркации северной границы Британской Индии и запрещении далай-ламе уступать территорию Тибета любому иностранному государству без согласия Великобритании.
Со второй половины XIX века российская внешняя политика определялась стремлением сохранить позиции России как великой державы в двух направлениях: восстановлением положения в Европе после крымского поражения и неукоснительным расширением своего присутствия на Востоке.
Это время было ознаменовано вхождением в состав Российской империи новых территорий не только в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, но и в Средней Азии, где разыгралось соперничество двух величайших империй - Российской и Британской. Главным призом в этой "большой игре" была возможность контроля над обширнейшими рынками сбыта и источниками сырья в глубинных районах евразийского континента. Памир в силу своей географической неизученности и политической неосвоенности оказался пунктом, в котором сфокусировались противоречия держав. Здесь разыгралась известная в истории "Схватка на Крыше мира" - кульминационная стадия "Большой игры". В эту "игру" в качестве объектов были вовлечены страны Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии, Дальнего Востока.
15 октября 1901 года в журнале "Разведчик" А.Е. Снесарев писал: " ...Иная судьба ожидала Памиры в более близкое к нам время; их географическое положение в точке схождения трех великих держав Азии - России, Китая и Англии, и их соседство с Афганистаном, в связи с некоторыми историческими условиями, из которых особенное значение имеет почти столетняя борьба России и Англии за господство в Азии, обратили внимание людей на эту пустыню, которая, по выражению туземцев, является "самым высоким и самым бедным местом в мире". В настоящую пору Памиры представляют собой одну из интереснейших проблем нашего времени...".
Именно отсюда, с Памира, от пика Повало-Швейковского простиралась самая протяженная сухопутная граница Российской империи с Китаем. Отсюда же начиналась афганская граница -- рубеж Российской империи, за которым оказалась сфокусированной наиболее яркая гамма межгосударственных отношений. Успехи России в Средней Азии к началу 60-х годов XIX века вызывали крайнюю озабоченность в Лондоне.
После установления российского протектората над Бухарой в 1868 года начались долгие и трудные русско-английские переговоры о границе между Бухарским ханством (сфера влияния России) и Афганистаном (сфера влияния Великобритании). Соглашение было достигнуто только в конце 1872 начале 1873 годов и оформлено в виде обмена нотами между внешнеполитическими ведомствами России и Великобритании. Границей между Бухарским ханством и Афганистаном стороны условились считать реки Амударью, Пяндж, Памир от истока в озеро Зоркуль на Памире до поста Ходжа-Салех, где Амударья резко поворачивает на северо-запад. Крайним афганским владением на левом берегу Амударьи признавался округ Андхой, далее простиралось пространство, принадлежавшее "независимым туркменским племенам". Достигнутые договоренности повсеместно нарушались. Бухарский эмир удерживал территорию на левобережье Пянджа в районе Дарваза. Афганцы, поощряемые англичанами, в 1883 году заняли правобережье Пянджа на Памире. Одновременно британские дипломаты и военные активизировали свою деятельность в северном Кашмире.
Потерпев неудачу и продолжая испытывать терпение снисходительной России, Англия выслала на Памир капитана Югунсбенда с большим отрядом, который и занял Канджут и восстановил крепость Шахидулла-Хаджа, таким образом выдвинув свою пограничную линию далеко на север и нарушая этим все договоры, какие только были между нею и Россией.
Территория Памира, включенная в состав Российской империи, до 1891 года не имела своего правления. Пользуясь, тем, что Россия занималась своим утверждением в Туркмении и не обращала внимания на малонаселенные и труднодоступные горные районы, на Восточный Памир периодически совершали набеги отряды Якуб-бека и цинских феодалов из Кашгара.
Когда в Афганистане вспыхнуло восстание Исхак-хана, брата Абдурахмана, укрывшегося после подавления восстания в российских владениях, Абдурахман мало-помалу начал вести враждебные действия против России, в том числе - и на Памирском направлении. Вдобавок, поступавшая информация о решимости британских властей осуществить раздел Памира между Китаем и Афганистаном принудили военное руководство России предпринять шаги для выяснения истинного положения дел на Памире и обеспечения геополитических интересов империи в этом районе.
Тогда английская пресса написала о насильственных действиях русских в отношении англичан и китайцев, о том, что они препятствуют мирным научным исследованиям Азии. В ней же движение маленького рекогносцировочного отряда по Памиру называлось прямо "походом на Индию".
Центральная Азия и Дальний Восток были важными объектами российских интересов. Для наблюдения за этими регионами Россия должна была вести систематическую разведывательную деятельность: постоянно проводить топографические и картографические работы, собирать данные о природных условиях и настроениях населения, создавать стратегические планы. Русский Генеральный штаб четверть века составлял и издавал основанные на данных военной разведки рапорты в серии "Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии". После окончания в 1905 году Русско-японской войны международное положение РОССИИ стало менее стабильным. Мечты России о господстве на Дальнем Востоке потерпели крах.
Китайцы начали вести себя высокомерно и избегать сотрудничества в торговых делах. В Китае все громче говорили о необходимости реформ, население было неспокойно, политическая агитация разрасталась.
Неожиданно в 1906 году полковник Густав Маннергейм получил задание от Генерального штаба - отправиться в далёкое путешествие, конечной целью которого должен был стать Пекин, с целью пополнения раэведданных о Китае. Русский Генеральный штаб дал Маннергейму следующее задание:
- собирать сведения и военно-статистический материал о посещаемых им местах, в особенности о китайских провинциях, расположенных за пределами Великой Китайской стены;
- выяснить, как и в какой степени осуществляются в различных районах Китая начатые его правительством реформы;
- познакомиться с приготовлениями в области обороны страны, а также с реформированием и системой обучения вооружённых сил;
- исследовать интенсивность переселенческих процессов в китайских провинциях и осуществляемые Пекином реформы местного управления;
- выяснить, каковы настроения населения, как оно относится к политике Китая, насколько местные племена стремятся к самоуправлению и какова роль в этом Далай-ламы, а также - каково отношение населения к России и Японии и в какой степени в деятельности китайского правительства прослеживается японское влияние;
- исследовать дорогу в Кашгар, а оттуда - в Ланьчжоу и Пекин, и в особенности выяснить, можно ли разместить в Ланьчжоу русскую кавалерию и отдельные воинские подразделения.
- Кроме того, следовало:
- картографировать и описать маршрут из Кашгара в Учь-Турфан через Гулджэтский перевал;
- следовать вдоль русла реки Таушкан, идущего с гор вниз до того места, где она сливается с рекой Яркенд;
- представить военно-статистическую характеристику расположенного в оазисе гарнизонного города Аксу;
- перебраться из Аксу в Кульджи через Музартский ледовый перевал;
- исследовать Юлдузскую долину;
- выяснить, насколько возможно использовать город Ланьчжоу как военный опорный пункт.
В записной книжке Маннергейма под шведским заголовком "Дополнительные сведения" зафиксированы и собственные исследовательские заметки. Их основная часть касается каменных памятников с руническими надписями, но, кроме того и китайского гражданского и военного законодательства, в частности законов, относящихся к горному делу; в числе интересовавших Маннергейма явлений -даже цвета глазурованных кирпичей, покрывавших мечети Самарканда, руководства по лечению болезней и проявке фотоматериалов в полевых условиях. В записной книжке содержался также список книг о Средней Азии и Китае, насчитывавший сто наименований, и ещё 15 страниц, исписанных убористым почерком, представляли собой шведско-китайский словарик, содержавший в общей сложности 1200 слов.
В качестве подарков Маннергейм взял с собой лупы, финские ножи, иглы, катушки ниток, музыкальные шкатулки, зеркала, брошки, ожерелья, часы: духи, томики Коранов, ножницы и т.д. Помимо тысячи открыток с изображением пейзажей и портретов было 500 штук "ню" - образцы предлагаемых западной культурой "обнажённых натур". В записной книжке находим и рассказ о том, как некий калмык сделал кровопускание заболевшей вьючной лошади Маннергейма, а также о том. как сарты вылечили его взбесившуюся чёрную лошадь при помощи особой хирургической операции.
В начале путешествия в Кашгаре и Яркенде Маннергейму помогали шведские миссионеры, российский консул Сергей Колоколов и его близкий друг, британский агент, наполовину китаец Джордж Маккартни. Как правило готовы были оказывать поддержку и китайские мандарины, предоставлявшие без всяких колебаний различную ценную информацию. Киргизы с Апайских гор, калмыки Юлдузской долины и уйгуры из провинции Ганьсу относились к нему дружески, так же как и многие дунгане. Маннергейм с похвалой отмечал живость и своенравие дунган. Кроме того, во многих местностях они были единственными, у кого можно было приобрести свежее молоко.
В ходе экспедиции приходилось сталкиваться с различными неприятностями - кто-то временами заболевал, случалось сбиться с пути, иметь дело с плохими поварами и негодными переводчиками. Помимо этих проблем, без которых не обходится ни одно путешествие, Маннергейм пережил лишь несколько серьёзных неудач. Например, в тибетском монастыре в Лабранге его забросали камнями враждебно настроенные паломники, хотя сами настоятели монастыря отнеслись к нему дружественно.
В пространном дневнике Маннергейма можно встретить множество восхищённых отзывов о величественных пейзажах. При случае он всегда отправлялся поохотиться на горных козлов, антилоп и птиц для пополнения однообразного и скудного рациона - в записной книжке отмечены имена нескольких рекомендованных ему английских проводников для охоты на диких животных. Поскольку официальным прикрытием Маннергейма в ходе экспедиции были этнографические исследования, он посылал в Хельсинки Финно-Угорскому обществу и совету коллекций Антелля экспонаты для музея. Помимо этого ему удалось переправить на родину и охотничьи трофеи для своего собрания.
Рапорт Маннергейма, насчитывающий 173 страницы, был издан в 81-м томе в 1909 году, то есть сразу после окончания его двухлетнего путешествия верхом по Азии. На обложке этого тома значится: "Не подлежит оглашению", что, конечно, свидетельствует о секретном характере содержания. О секретности издания говорит и такой факт: только три тома этой серии попали в коллекцию Славянской библиотеки Хельсинкского университета, которая формировалась обязательными экземплярами всех издававшихся в России книг.
Рапорт начинается с характеристики стоявших перед экспедицией военных задач и проделанного пути. О своих результатах Маннергейм сообщает в главах, которые посвящены соответственно:
- постройке железных дорог;
- войскам;
- школам;
- борьбе против опиума;
- промышленности и горному делу;
- роли японцев в Китае и
- китайским переселенческим поселениям в пограничных районах.
На страницах 118-128 под заголовком "Западный фронт Китая" излагает предлагаемый Маннергеймом основной стратегический план. Собранные Маннергеймом сведения о ситуации в Китае без сомнения оказались бы весьма ценными для России, если бы война между этими странами началась в ближайшие годы после окончания его экспедиции. Однако политическая ситуация в мире стремительно изменилась, и в результате все прежние стратегические построения быстро устарели.
Записки, переданные Маннергеймом Генеральному штабу, всё ещё не обнаружены. Не дали результатов поиски ни в Российском военном архиве, ни в фондах географических экспедиций, хотя по некоторым сведениям, они всё-таки хранятся в военном архиве.
Сбор материалов, угрожавших безопасности Китая, без сомнения следовало как-то маскировать. Для того чтобы скрывать свою подлинную деятельность, Маннергейм представился путешественником-исследователем, благо, в то время, таких в Китайском Туркестане, было много, поскольку оказалось, что этот район необычайно богат в археологическом отношении. Поэтому несколькими годами раньше началось настоящее соревнование между различными музеями мира за овладение древними сокровищами. Поначалу было договорено, что Маннергейм присоединится к экспедиции француза Поля Пеллиот, но их пути разошлись уже в Кашгаре.
У Маннергейма не было достаточного запаса времени на то, чтобы вникнуть во все те научные источники и методики, которые понадобились бы ему для проведения исследовательской и собирательской работы в полевых условиях. Между тем запросы и научные задания Финно-Угорского общества и совета коллекций Антепля, были чрезмерными - например, совет хотел получить как можно более полную этнографическую коллекцию. В помощь себе Маннергейм взял несколько английских справочников для путешественников, которые по его словам оказались очень полезны.
Необходимо упоминуть о коллекциях, собранных Маннергеймом, и других важных для науки результатах экспедиции. Каждый сделанный им фотокадр Маннергейм точно фиксировал в приложении к своей записной книжке. Помимо места съёмки, темы и координатов снимавшегося объекта он фиксировал характер облачности, дальность, выдержку и экспозицию. Всего было сделано 1355 кадров, 58 из них не удались. Общее количество получившихся снимков - почти 1300 Коллекция фотографий Маннергейма включает в себя и снимки военных сюжетов, однако её главной целью было отображение жизни тех народов, в среде которых он собирал свои материалы.
Находясь в экспедиции, Маннергейм послал в Хельсинки очень разноплановую коллекцию. В ней содержались этнографические образцы, собранные среди сартов русского и китайского Туркестана, у киргизов Алайских гор, Кара-Теке и Музартэ. В районе Хотана и других местах он получил от местных жителей археологические находки, добытые ими из руин старых буддийских городов. Он и сам в нескольких местах затевал с помощью своих сотрудников пробные археологические раскопы для отвода глаз, но к его чести нужно сказать, что он никогда не занимался скалыванием древних памятников настенной живописи. Получить какие-либо предметы из того немногого, что хранилось у кочевников, было очень сложно даже за большие деньги. Китайские экспонаты не интересовали финских заказчиков Маннергейма, хотя сам путешественник планировал массированный сбор именно этого материала. Некоторые предметы он привёз с собой и передал их лично интенданту археологического управления А.О, Гейкелю.
Маннергейм надеялся, что его коллекция фотографий всегда будет сохраняться, как единое целое, и в 1937 году он подарил её вместе с другими архивными материалами своей Азиатской экспедиции Финно-Угорскому обществу, где собирались публиковать его дорожный дневник и некоторые научные коллекции- Позже все фотографии и негативы из Финно-Угорского общества были переданы на хранение в этнографическое собрание музейного ведомства.
У совета коллекций Антеппя было много сложностей с содержимым посланного Маннергеймом, поскольку часто при вскрытии ящиков посланных Маннергеймом оказывалось, что там отсутствуют предметы, которые должны были бы быть. Упаковочные листы, сами предметы и вкладыши с их описанием не всегда соответствовали друг другу. Многие упаковки с грузами надолго задерживались в пути, и по дороге из их содержимою пропадало с сотню номеров. Однако сам Маннергейм всегда действовал точно и добросовестно. В настоящее время в Национальном музее Финляндии хранится коппекция Маннергейма, содержащая в себе около 1200 предметов.
На протяжении всей поездки Маннергейм пытался учить китайский и кыргызский языки, однако удивительной оказалась и его способность фиксировать языки малоизвестных, народов. В 1911 году вышла его объёмная статьи, изданная на основе заметок о двух народах тюркско-монгольского происхождения. В этой статье содержится употребительный лексический материал, и вследствие публикации этой работы имя Маннергейма упоминается в истории элтаистики, как имя человека ставшего одним из пионеров в этой области. Помимо этого он проявил большой интерес к народу абдалов, загадочному по происхождению и почти поголовно занимавшемуся нищенством. Кроме того, его внимание привлекли жившие в горах, к югу от Хотана, шихшу и пахпу, широко расселившиеся дунганы - исповедовавшие ислам китайцы, евреи Кай-Фына и некоторые другие народы.
Ещё находясь в России, в Западном Туркестане, Маннергейм встретился со знаменитой "царицей" киргизов Алайской долины Курманджан-датха, она специально сфотографировалась верхом на лошади, хотя ей было уже 95 лет. Кроме того, Маннергейм был пятым из европейцев, удостоившихся аудиенции тринадцатого Далай-ламы. Это произошло в монастыре Утай-Шань в Иванов день 1908 года.
Из всего пройденного экспедицией маршрута в 14 тысяч километров Мэннергейм нанёс на карту 3 087 километров пути. Во второй части изданного в английской редакции дорожного дневника Маннергейма опубликованы вычерченные набело в Финляндии отрезки девяноста двух маршрутов на четырнадцати листах карт. Они важны для ознакомления с географией региона. К сожалению подлинные, сделанные рукой Маннергейма зарисовки маршрутов пропали. Досадно и то, что опубликованные в шведской и финской редакциях дорожного дневника карты маршрутов содержат в себе ошибки. Общая же карта, приложенная Маннергеймом к его рапорту, местами показывает маршрут слишком приблизительно.
Но самым прискорбным является то обстоятельство, что пространная редакция дорожного дневника Маннергейма, изданная на английском для того, чтобы ею могли пользоваться в международном масштабе. Маннергейм хорошо сознавал сложности, связанные с воспроизведением иноязычных географических и других терминов. Научная достоверность текста Маннергейма пострадала не по его вине, поскольку многие общеизвестные названия были деформированы до неузнаваемого состояния. Кроме того, редакторы издания вместо того, чтобы использовать английские соответствия китайских, монгольских и тюркских названий, позаимствовали их шведские транскрипции. Окончательный результат незаслуженно снижает уровень прекрасных памятных заметок Маннергейма, которые самих по себе только в небольшой степени нуждаются в исправлениях. Б этом смысле судьба записок Маннергейма напоминает историю с публикацией трудов двух других известных финских путешественников - ГА. Валлина и М. А. Кастрена, научные изыскания которых томно так же изданы с серьезными дефектами. Другое депо, что дневник Маннергейма обладает помимо прочего и выдающимися литературными достоинствами.
Ещё перед Первой мировой войной Маннергейм собирался сам обработать некоторые части добытого им научного материала с целью подготовить к публикации, но уже в 1939 году он писал врачу-миссионеру Густаву Ракетту: "Когда я пришёл к простой мысли, что вряд ли когда-либо найду время обработать дневниковые записи Моей экспедиции 1906-1908 годов, я подарил их вместе с картами и другим материалом Финно-Угорскому обществу. Однако теперь, как ты, возможно, узнал от профессора Хилдена: Финно-Угорское общество к моему ужасу решило издать дневник необработанным и в английском переводе. С моей точки зрения эта затея выглядит слишком смелой, но учёные мужи думают иначе, и уж, коль скоро я подарил им весь материал, мне больше нечего сказать по этому поводу".
В завершении следует отметить, что хотя Маннергейм в науке был благодаря жизненным обстоятельствам лишь дилетантом, и хотя его планы продолжить позже исследование абдалов и других малоизвестных народов нашли своё освещение лишь в переписке с Густавом Ракеттом, всё же коллекции, которые он собрал, и его заметки обладают несомненной и неизменной научной ценностью, всю глубину которой мы лишь постепенно осознаём. И наверное парадоксально, что результаты его тяжёлой разведывательной операции в конце концов никак не были использованы, а, наоборот, то, что он делал лишь для маскировки, дало ему славу выдающегося исследователя-путешественника, которому вдобавок посчастливилось вместе с лучшими учёными разных стран осуществить прорыв в исследовании Туркестана.
Не мешает, иногда, и проучить их.
В оригинале, полное название, уже цитированной нами, книги Питера Хопкирка "Большая Игра против России: Азиатский синдром" - "The Great Game: On Secret Service in High Asia". Книга хорошо известна и потенциально могла бы быть ценнейшим источником, но написана слишком по-американски - автор никак не затрудняет себя предоставлением доказательств. Можно спорить и соглашаться со многими высказываниями Питера Хопкирка, но справедливым будет познакомиться и с мнением русских военных и их изложением этой части истории.
Непосредственное участие в памирских походах и экспедициях Ионова, Громбчевского принимал Тагеев Борис Леонидович - военный востоковед, путешественник и писатель. Родился в 1871 году в Санкт-Петербурге, в семье учителя. Получил домашнее образование. На военную службу поступил вольноопределяющимся в 1-й Туркестанский линейный батальон, прапорщик (1892). Во время службы прекрасно изучил быт, нравы, обычаи и культуру местного населения. Владел персидским, самостоятельно выучил сартовский (узбекский) язык. Участник "Памирских походов" (1892-1895), оставил интересные воспоминания о "памирском кризисе", о русских военно-географических исследованиях Алая и Памира. Автор биографических описаний ряда видных деятелей Центральной Азии той эпохи. Описал путешествие по Афганистану в путевых записках, в которых содержатся интересные сведения по Афганскому Туркестану, характеристика афганской армии, сведения об афганских племенах. В 1901 году уволен со службы в чине поручика. В 1937 году Тагеев Борис Леонидович был арестован НКВД и расстрелян в январе 1938.
Многие его произведения опубликованы под псевдонимом Рустам-Бек. В его книге "Русские над Индией. Очерки и рассказы из боевой жизни на Памире" красочно и достоверно описываются события памирских походов Ионова, Громбчевского.
Знакомство России с Памиром состоялось еще в 1876 году, когда была покорена Ферганская долина и отряд генерал-майора М.Д.Скобелева поднялся на Алайский хребет. Ясным июньским днем с перевала Арчат Белый генерал и его сподвижники увидели на юге ярко-зеленые луга Алтайской долины, а за ними - "непрерывную стену снега", которая "тянется на пространстве более ста верст, играя на солнце, как хрусталь, гранями отдельных вершин". Это сиял вечными снегами Заалайский хребет, за которым лежала горная страна Памир. Нам не трудны снежны горы, и Алайский крутой скат.
Уральские казаки смело взобрались на Памирское нагорье и дошли до перевала Акбайтал, что вознесся на 4.655 метров над уровнем моря! Уже тогда мы были вправе занять и весь Памир до его южной границы - снежного хребта Гиндукуш: все это были владения Кокандского ханства, присоединенного теперь к России. Однако от Акбайтала скобелевцы вернулись: слишком много забот было у нас и по эту сторону Алая. Кроме того, Россия не хотела раздражать своего старого врага Англию: ведь мы приближались к "жемчужине британской короны" - Индии! Со своей стороны, Петербург полагался на англо-русские соглашения 1872 - 1873 годов, по которым Памир признавался сферой влияния России.
Однако в 1883 году британцы нарушили этот договор и побудили своего вассала - афганского эмира занять западно-памирские ханства Рошан и Шугнан. Родственные таджикам обитатели этих областей испытали все ужасы восточного завоевания с вырезанием целых кишлаков, тотальным грабежом, угоном женщин и детей в Кабул.
В итоге капитан Б.Л.Громбчевский, посетивший в 1889 году рошанское селение Сарез, был "приятно удивлен" "симпатию населения к русским". "Жители, - сообщал он, - называли себя не иначе, как подданными Белого Царя".
В восточную часть Памира, где кочевали летом русскоподданные киргизы, после 1884 года вторглись китайцы. В 1889-м их посты стояли уже в самом центре нагорья, и у англичан созрел план раздела Памира между Китаем и Афганистаном. Тем самым они чужими руками преградили бы русским путь к Гиндукушу и далее в Индию. Кроме известий об этом плане, нас не могли не встревожить частые рекогонсцировки Памира британскими офицерами и начатая в 1890 году прокладка шоссе Сринагар - Гильгит, которое выводило англичан на ближайшие подступы к Памиру с юга. Становилось ясно, что в войне с Россией - а она могла вспыхнуть в любой момент - Англия и ее союзники не преминут воспользоваться памирским плацдармом. В 1885 году через Рошан уже шло афганское серебро для ферганских мятежников...
Медлить больше было нельзя. В мае 1891 года туркестанский генерал-губернатор барон А.Б.Вревский приказал командиру 2-го Туркестанского линейного батальона полковнику М.Е.Ионову произвести рекогносцировку Памира и "восстановить права России" на эту область. Отряд Ионова состоял из 122 человек, которых выделили войска Ферганской области - охотничьи команды 2-го, 7-го, 15-го, 16-го и 18-го Туркестанских линейных батальонов и 6-й Оренбургский казачий полк. Охотничьи команды были предшественниками нынешних разведрот и спецназов; в них отбирали самых сметливых, расторопных и отважных солдат. За плечами же самого Михаила Ефремовича Ионова были 25 лет боев и походов в Средней Азии. А эта школа учила никогда не теряться, действовать решительно и по обстановке...
10 июля 1891 года по перевалу Кызыл-Арт отряд поднялся на Памир. Старый туркестанец верно понял свою задачу. Не имея ни санкции МИДа, ни прямого приказа Вревского, игнорируя китайские посты и разъезды, он расставлял на своем пути пограничные знаки - камни с надписью: "Полковник Ионов. 1891".
Обойдя всю восточную часть южной окраины Памира, Ионов с 30 казаками, охотниками и офицерами 26 июля перевалил через Гиндукуш и спустился в Индию! За ханством Ясин, куда он попал, лежали уже владения английского вассала - магараджи Джамму и Кашмира...
Пройдя по Индии около ста верст, полковник повернул на север и через перевалы Даркот и Барогиль вновь вышел на южную границу Памира, к афганскому форту Сарход. Завидев 20 оренбургских казаков, едущих со стороны Индии, гарнизон Сархода "быстро поразмыкался по балкам", и оказавшемуся в одиночестве коменданту оставалось лишь просить Ионова не разглядывать его "секретный объект". Разглядывать не стали...
Удивлен был и следивший за Ионовым английский капитан Янгхазбэнд, на которого наткнулись у мазара Базай-Гумбез. Имея приказ о выдворении британца за пределы России, полковник заявил, что может применить силу, но предпочтет поверить честному слову гвардейского драгуна королевы Виктории... Слово было подкреплено распиской, в которой Янгхазбэнд обязывался на другой же день покинуть нашу территорию и впредь не пересекать указанной ему Ионовым государственной границы. А вот другой викторианец - лейтенант Девисон, обнаруженный на обратном пути у реки Аличур, - доверия Ионову не внушил. Конвоировать соглядатая в обтрепанном штатском до границы было некогда, и Дэвисона забрали с собой. Китайскому же пикету, при котором отирался англичанин, приказали немедленно убираться из России, что и было исполнено...
"Самовольно" перейдя Гиндукуш, Ионов доказал возможность похода в Британскую Индию по кратчайшему пути - через Памир. Конечно, этот путь не был самым удобным; главный удар следовало наносить от Кушки и Термеза через Афганистан. Тем не менее, ценность Памира в глазах русских военных сразу же возросла, и главный штаб с военным министром П.С.Ванновским высказался за скорейшее занятие нагорья нашими войсками. Однако МИД, боясь рассердить Англию и уповая на всесилие "дипломатических методов", добился фактического отказа от этой акции. "Вскоре это министерство нашло неудобным посылать даже астронома и топографа!" Поставленные Ионовым пограничные знаки поспешили объявить геодезическими...
Между тем в ноябре 1891 года английские войска заняли ханство Канджут, примыкавшее к юго-восточному углу Памира. Прогнанные Ионовым китайские посты сразу же после ухода русских в Фергану вернулись обратно, а афганские из западной части Памира выдвинулись в самый его центр. Речь шла уже о достоинстве державы, и 18 апреля 1892 года Александр III повелел двинуть на Памир отряд, в который вошли сводный батальон от 3-й Туркестанской линейной бригады, половина 6-го Оренбургского казачьего полка, команда Туркестанского саперного полубатальона и 4 орудия Туркестанской конно-горной батареи. По настоянию дипломатов, войскам все же запретили выдвигаться южнее реки Мургаб, которая делит Памир на северную и южную половины (не путать с туркменским Мургабом!). Но во главе отряда стоял Ионов! Из инструкции Ванновского он запомнил главное: задачей экспедиции является "охранение наших интересов в Памирском крае"...
В июне 1892 года светло-синие погоны оренбургских казаков и линейцев и алые артиллеристов и саперов вновь расцветили пустынные долины Восточного Памира. Несмотря на запрет, Ионов с сотней оренбуржцев, ротой охотников и двумя пушками прошел за Мургаб, к озеру Яшилькуль: там, на урочище Сумэ-Таш, обосновался афганский пост... На рассвете 12 июля два казачьих взвода отрезали посту пути отхода, а третий с Ионовым приблизился к нему вплотную. Вышедшие навстречу двадцати русским 18 афганцев, отказались сложить оружие и покинуть нашу территорию.
Весьма красочно описывает этот пограничный инцидент Борис Тагеев: "...С обрыва было видно, как перебегали из одной юрты в другую афганцы, как на пути запоясывались они и закладывали патроны в ружья. И вот целая вереница красных мундиров во главе со своим начальником стала подниматься на яр и скоро построилась развернутым фронтом перед нами. Их лица горели негодованием и решимостью.
Капитан сделал честь полковнику Ионову, приложив руку к головному убору. Полковник ответил ему по-русски под козырек. Начались переговоры через переводчика.
- На каком основании вы выставили свой пост на нашей территории? - спросил полковник.
- Потому что земля эта наша, - возразил афганец и, скрестив на груди руки, принял вызывающую позу. - Мы владеем ею по договору с Англией с 1873 года, -- прибавил он.
- Нам нет дела до ваших договоров о наших владениях, - возразил полковник, - и я, исполняя возложенные на меня обязанности, прошу вас положить оружие и уйти отсюда прочь. Капитан вспыхнул.
- Я рабом не был и не буду, - сказал он, - а если вам угодно наше оружие, то перебейте нас и возьмите его - афганцы не сдаются, - заключил он свою речь.
- Так вы не оставите этого места и не отодвинетесь за границу Афганистана? - спросил полковник. - Я вас спрашиваю в последний раз.
- Я сказал все! - ответил афганец.
Видя, что путем переговоров ничего не поделать с афганцами и избегая кровопролития, полковник хотел неожиданно перехватать их, не дав им опомниться.
- Хватай их, братцы! - вполголоса передал он приказание казакам.
Но не тут-то было. Не успели наши сделать и шага вперед, как афганцы дали дружный залп, и двое из наших грохнулись на землю. Раздался глухой, раздирающий душу стон.
- Бей их! - крикнул полковник, и все ринулось вперед.
Полковник Ионов спокойно сидел на лошади, наблюдая за дерущимися; в пяти шагах от него стоял афганский капитан, который прехладнокровно стрелял из револьвера и вдруг, рванувшись вперед, подбежал к лошади полковника.
Блеснул огонек - и выстрел прогремел над самым ухом начальника отряда. Как-то инстинктивно полковник подался на шею лошади, и пуля прожужжала мимо. Капитана окружили казаки. Но афганец уже успел выхватить из ножен свою кривую саблю и, как тигр, бросился на них. Вот упал уже один казак под ударом кривого клинка капитанской шашки. Вот снова она, то поднимаясь, то опускаясь, наносит удары направо и налево.
&;nbsp; В нескольких шагах стоит хорунжий Каргин и смотрит на эту картину, пули свистят вокруг него, а он стоит, как будто не действительность, а какая-то фантастическая феерия разыгрывается перед ним.
- Хорунжий, да убейте же его, наконец! - раздается роковой приговор полковника, и вот, вместо того чтобы схватить свой револьвер или шашку, хорунжий, не отдавая себе отчета, хватает валяющуюся на земле винтовку раненого казака и прицеливается. Он даже не справляется, заряжено ли ружье, и спускает ударник. Выстрел теряется среди общей трескотни и шума, и только легкий дымок на мгновение скрывает от глаз фигуру капитана. Как-то странно вытянулся вдруг афганец, взмахнув одной рукой, другой схватился за чалму, на которой заалело кровавое пятно, и стремглав полетел с яра...
На одного ефрейтора наскочили двое афганцев, завязалась борьба. Ефрейтор неистово ругался, желая освободиться от наседавшего на него неприятеля, но в это время подоспел казак.
- Не плошай! - кричал он издали отбивавшемуся ефрейтору, и с этими словами шашка его опустилась на окутанную чалмою голову афганца.
Вот и другой уже на земле с проколотою грудью. Страшно хрипит он, издавая звуки, как бы прополаскивая себе горло собственною кровью, и, несмотря на это, силится подняться и зарядить ружье, но силы изменяют ему, кровь хлынула горлом, и он склонил свою голову.
Недалеко от места стычки, под большим камнем, доктор Добросмыслов перевязывает раненых, из которых один с совершенно перебитою голенью неистово стонет. -- Ничего, ничего, потерпи, голубчик, - успокаивает его доктор. - Уж мы тебе ножку твою вылечим. Давай корпии, - кричит он фельдшеру, который мечется с трясущеюся нижнею челюстью от одного к другому из раненых.
- Ой, больно, ваше высокоблагородие! - стонет раненый, пока доктор вынимает висящие снаружи осколки раздробленной кости.
Выстрелы все еще продолжаются, потому что засевшие в юртах афганцы все еще продолжают стрелять. Наконец раздался резкий звук трубы, игравшей отбой, и пальба мало-помалу утихла. Из юрт выползли раненые афганцы.
Тяжелое зрелище представлял собою весь скат и зеленая площадка берега Аличура. Везде валялись убитые или корчились раненые; последние, силясь подняться на руки, молили о помощи.
Подошел резерв, и все сгруппировались около места, где лишь несколько минут тому назад стояли перед нами полные жизни люди и где теперь валялись одни лишь обезображенные трупы. Тихо между солдатами, нет ни веселого говора, ни песен; у каждого на уме, что, быть может, и его постигнет такая же участь, как и этих афганцев.
- Саперы - вперед! - раздается команда. - Рой могилу.
Дружно принялись солдаты за работу, и через четверть часа яма была уже готова. Одного за другим стащили афганцев и положили в яму, а поверх всех был положен капитан Гулям-Хайдар-хан - пуля пробила ему голову, ударив в левый висок.
- Ишь ты, тоже сражался, - сказал один из солдат.
- Известно, сражался, а то как же? - заметил другой. - Тоже, ведь офицер!
Мерно падала земля с лопаток на тела убитых, покрывая их одного за другим своим холодным слоем и поглощая навеки павших героев... ".
После этой стычки афганские отряды поспешили очистить Памир, и Александр III мог с полным правом начертать на полях доклада о Сумэ-Таше: "Не мешает иногда и проучить их".
К тому времени Капитан А.Г.Скерский с 45 казаками проник на крайний юго-восток Памира, к урочищу Ак-Таш, где китайцы уже возводили укрепление. По требованию нашего офицера они тут же убрались на свою территорию, а укрепление русские срыли.
В сентябре 1892 года Ионов вернулся в Ферганскую долину, а на урочище Шаджан остался на зимовку Шаджанский отряд во главе с генерального штаба капитаном П.А.Кузнецовым. Здесь, в центре Восточного Памира, на высоте 3.658 метров над уровнем моря, военный инженер штабс-капитан А.Г.Серебренников построил земляной редут с двумя барбетами - насыпными площадками для пулеметов "Максим". Внутри редута поставили утепленные юрты, в которых разместились охотничьи команды 2-го, 4-го, 7-го, 16-го, 18-го и 20-го Туркестанских линейных батальонов, полусотня оренбуржцев 6-го полка и команда киргизских джигитов - всего 234 человека. Укрепление назвали Памирским постом. Сейчас здесь населенный пункт Мургаб.
Отряд остался наедине с Восточным Памиром - плоскими сухими долинами между грядами таких же безжизненных холмов. Ни деревца. Всюду камень, галька, песок и непрекращающийся, несущий тучи пыли ветер... Его непрерывный монотонный вой угнетающе действовал на психику, но еще тяжелее было переносить холод и недостаток кислорода - долины лежали на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря, а перевалы возвышались до 5000 метров. Люди теряли в весе; у них начиналась цинга, анемия, а у некоторых и горная болезнь. Изнуряли и резкие суточные колебания температуры. Например, 18 февраля 1893 года в час дня на солнце было плюс 20 градусов, в тени - минус 6,5, а ночью - минус 35!
Но поставленные "над Индией" шаджанцы держались: у одних по обшлагу шла зеленая тесьма охотничьих команд, а на шароварах других были светло-синие казачьи лампасы. Вели разведку, строили вместо юрт полуземлянки, в бураны и 30-40-градусные морозы выходили на ночные учения - спасая людей от цинги, Поликарп Алексеевич Кузнецов не давал им расслабляться. Его же заботами в отряде был создан солдатский театр. Уже в 1894 году на посту завели и свой оркестр.
Сберегая солдата, капитан Кузнецов совершенно не думал о своем собственном здоровье и вконец его расстроил. Подстать начальнику был и отрядный врач Третьяков, страдая горной болезнью, он все же находил в себе силы обойти все помещения и держал под контролем здоровье каждого рядового. Так же заботился о солдате и старый туркестанец капитан В.Н.Зайцев, отряд которого в августе 1893 года сменил на Памирском посту отряд Кузнецова.
Китайцы продолжали нарушать границы Памира, однако теперь на их пути все чаще вставали лихие оренбургские казаки. В мае 1893 года у перевала Бердыш наш разъезд, - казак и два киргиза - наткнулся на целую "лянзу" в 60 всадников, но продолжал смело ехать вперед. Когда же из толпы китайцев раздался выстрел, оренбуржец, не раздумывая, в одиночку понесся на "лянзу" и обратил ее в паническое бегство! Не удостаивая своим вниманием прочих, казак догнал стрелявшего и взял его в плен. (!)
Сложнее было справиться с главой нашего МИД Н.К.Гирсом, твердившим, что занятие Памира повредит "дружеским отношениям" России с соседними странами. "От таких соображений, - справедливо писал генерал М.А.Терентьев, - конечно, легко перейти к проекту самых широких уступок ничего не стоящих земель соседям, ради сохранения "дружеских отношений"!" Но генерал-губернатор Вревский взял ответственность на себя, и в августе 1893 года наши посты встали на старой восточной границе кокандского Памира - у подножия Сарыкольского хребта. А на Западном Памире вновь появились афганцы.
Чтобы напомнить им о принадлежности этой земли России, в Рошан был отправлен с рекогносцировочной партией штабс-капитан С.П.Ванновский - сын военного министра. Пробиваясь диким ущельем реки Бартанг на запад, русские встретили афганский отряд в 6О человек, потребовавший от них повернуть назад. С Ванновским было всего 12 офицеров, казаков и охотников, но отойти значило подорвать престиж России, и штабс-капитан принял бой.
Винтовке Мосина - 115 лет, но именно тогда, 30 августа 1893 года, у кишлака Имц близ впадения Бартанга в Пяндж, сделала свои первые выстрелы по врагу трехлинейная винтовка Мосина, более полувека служившая России. Всего две такие винтовки было на Бартанге у охотников 2-го Туркестанского линейного батальона, но их меткость и невиданная еще дальнобойность сорвали все атаки красномундирных солдат эмира. К вечеру у афганцев было уже 18 убитых, и им пришлось пропустить Ванновского.
Однако в 1894 году Западный Памир снова стонал от афганских насилий. Чтобы не допустить резни населения, русские сосредоточили на Памирском посту три отряда под общим командованием Ионова - теперь уже генерал-майора. А 19 июля 1894 года офицеры генерального штаба повели в Шугнан две рекогносцировочные партии. Долиной реки Шахдары шел капитан А.Г.Скерский, а вдоль течения Гунта продвигался подполковник Н.Н.Юденич - будущий полководец Первой мировой и гроза красного Петрограда.
Понижавшиеся долины постепенно превратились в громадные ущелья; появились лесные заросли, сплошной зеленой стеной отделившие прижатую к утесу тропу от бурлящей Шахдары... 28 июля Юденич и Скерский встретили два афганских отряда по 150 человек, причем партия Скерского была вероломно обстреляна. Заняв оборону на урочище Вяздара - сначала с 40, а потом с 74 туркестанцами и оренбуржцами, капитан заявил афганцам, что не отступили на шаг... И вновь выручили замечательные трехлинейки - их залпами с дистанции 1,5 - 2 километра 5 и 7 августа были отражены все попытки врага атаковать нашу позицию.
Отказался отступить и Юденич. А узнав, что в Шугнан идет с отрядом Ионов, афганцы 19 августа сами ушли за Пяндж - на этот раз навсегда. Шугнанцы целовали нашим офицерам руки, становились перед своими избавителями на колени.
23 августа 1894 года Ионов, Юденич и Скерский соединились у кишлака Хорог. В пяти верстах к западу катил свои воды Пяндж - западная граница Памира. 1 сентября вверх и вниз по реке ушли первые разъезды оренбургских казаков.
Таким образом, в 1892-1895 гг. в пограничных стычках с афганцами войска Памирского отряда, возглавлявшиеся последовательно полковником Ионовым, подполковником Юденичем, капитанами Скерским и Серебряковым закрепили за Россией Памир, поставив окончательную точку в завоевании Средней Азии и становлении среднеазиатского участка российской границы.
"Два хороших боевых урока побудили англичан и на Памире прибегнуть к разграничительной комиссии, которая в 1896 году и установила существующую ныне пограничную линию. Памирской разграничительной комиссией и кончается второй период, в течение которого Англия всеми способами хотела приостановить наше наступление и положить ему предел, а Россия, дипломатически оправдываясь и обороняясь, шла неудержимо вперед, применяя вооруженную силу".
В 1895 году путем обмена нот между Россией и Великобританией было заключено соглашение о разделе владений на Памире к востоку от озера Зоркуль до границы с Китаем. Южная граница России проводилась в основном по параллели озера Зоркуль. Британское правительство обязалось оставить полосу между этой границей и хребтом Гиндукуша (так называемый Ваханский коридор) во власти афганского эмира, не присоединяя ее к Британской Индии и не возводя здесь укреплений. Подтверждались условия соглашения 1872-1873 годов о принадлежности правого берега Пянджа Бухарскому ханству, а левого - Афганистану. Зафиксированная в русско-английских соглашениях 1872-1873, 1885 и 1895 годах линия границы Российской империи и Бухарского ханства с Афганистаном не изменялась до 1917 года.
Весной 1896 года результаты делимитации и демаркации границы России с Афганистаном на Памире были ратифицированы в Великобритании и России. Новые российские владения в регионе - такие административно-территориальные образования, как Семиреченская область с ее Иссык-Кульским (позднее именуемым Пржевальским) уездом и Ферганская область с ее Ошским уездом в составе Туркестанского генерал-губернаторства (с 1867 по 1886 годах, затем Туркестанского края) - уже непосредственно граничили с Синьцзяном.
Более чем столетний опыт убеждал, что обладание киргизской степью, необходимое для спокойствия пограничных губерний и Сибири, недостижимо до полного усмирения и подчинения соседних ханств, в особенности коканского, в котором выходцы из степи и недовольные всегда находили поддержку, и которое само имело притязания на господство над всею степью. Весьма медленное и периодическое, но неизменное передвижение российских границ степи на юг и восток было поэтому, как теперь общепризнано, историческим результатом требований нашего положения в Азии. Река Чу не могла служить русским окончательной границей, как показывали не прекращавшиеся набеги за-чуйских кара-киргизов и самих коканцев в 1860 году. Разрушение Токмака и Пишпека в 1860 году повело лишь, в том же году, к нашествию значительных коканских полчищ, угрожавших уничтожением наших едва возникавших в Заилийском крае поселений, и к возобновлению затем коканского укрепления в Пишпеке.
2 ноября 1860 года между Россией и Китаем был подписан "дополнительный" к Тяньцзинскому Пекинский договор о русско-китайской границе. Заключением договоров правительство России стремилось закрепить освоенные территории и прохождение границы, создать наиболее благоприятные условия для своих купцов и промышленников. Что было крайне важно для экономического и политического развития этого региона. Не меньшее значение имело и усиление присутствия здесь русской армии и казачьих войск. Последние рассматривались правительством, прежде всего как созидательная сила в преобразовании края и "как охранитель государственных границ".
25 сентября 1864 года уполномоченные России и Китая по разграничению подписали Чугучакский протокол, в котором были установлены важнейшие географические ориентиры русско-китайской границы - вершины гор, реки и тому подобное от Западных Саян до соединения горных систем Тянь-Шаня и Куньлуня, откуда начинались кокандские владения.
На основании Чугучакского протокола 1864 года началось составление описаний границы, карт, установка пограничных знаков по отдельным участкам. Протоколом устанавливались пограничная служба и консульские отношения. Регламентировалась торговля на казахско-киргизской части границы. Эта работа была прервана в начале 1870-х годах в связи с событиями в пограничном с Россией Кашгаре. Здесь в 1862-1863 годах и в 1876-1877 годах происходили антикитайские восстания местных уйгур-мусульман, которые под руководством Якуб-бека свергли китайскую власть и провозгласили образование собственного мусульманского государства Йеттишаар. Выходец из Ферганы, Якуб-бек сразу признал себя вассалом турецкого султана, в Синьцзяне появились турецкие военные советники. Вообще, эта идея "независимого Туркестана" имела самое прямое отношение к доктрине пантюркизма. С того времени контакты между мусульманами Китая и Турции через Центральную Азию постоянно подпитывали сепаратизм в Синьцзяне, из Коканда в Синьцзян шел поток проповедников и ходжей. Большой вес приобрели при дворе Якуб-бека британские офицеры и дипломаты. Более того, Якуб-бек захватил несколько стратегических перевалов на Тянь-Шане и начал вести открытую борьбу за контроль над рынками Кокандского ханства. В этой ситуации пекинское правительство обратилось к России с просьбой о помощи, и Россия не отказала. В Кашгар (Илийский край с центром в Кульдже) были введены части регулярной армии и казаки, которые разгромили силы Якуб-бека. Правда, в целом русско-китайские отношения рубежа 70-80-х годах XIX века балансировали на грани войны. Несмотря на очевидную легкость занятия, а точнее сохранения за собой Кашгарской провинции, Россия вскоре передала ее Китаю согласно Петербургскому договору 1881 года. Хотя и после вывода войск Россию беспокоило положение в Кашгаре, поскольку, наряду с Памиром, этот район в 1880-х года был важным центром противоборства Британской и Российской империй за стратегическое доминирование в Центральной Азии. Для России во второй половине XIX в. Кашгария являлась и важной сферой экономических интересов.
Работы по подробному разграничению во исполнение Пекинского (1860) договора были продолжены, но теперь, в связи с ликвидацией Кокандского ханства, они охватывали район вплоть до Памира.
В горах Тянь-Шаня и Памира граница во многих случаях устанавливалась только по карте. Без работ на местности и постановки пограничных знаков. Кашгарский протокол от 25 ноября 1882 года определял участок границы России с Китаем от верховьев реки Нарынкол до перевала Бедель (около 200 верст), из-за труднопроходимых горных условий обозначенных одним пограничным знаком. Не имея точных сведений о бывших кокандских владениях на Восточном Памире, российская сторона согласилась в Новомаргеланском протоколе 22 мая 1884 года на формулировку, ограничивающую ее свободу действий на Памире. Согласно этому Протоколу, были установлены 28 пограничных знаков на месте установленной границы от перевала Бедель до пункта Иркештам, далее знаки отсутствовали.
В 1894 года российские и китайские дипломаты обменялись нотами, согласно которым Сарыкольский хребет признавался границей "впредь до окончательного соглашения по вопросу разграничения". При этом китайская сторона подчеркнула, что не отказывается от претензий на Восточный Памир, ссылаясь на Новомаргеланский протокол 1884 года. Этот участок границы - от перевала Узбель до пика Повало-Швейковского и перевала Беик (около 285 верст) - был единственным не закрепленным международными соглашениями участком сухопутной границы Российской империи с другим государством.
В 1885 году было проведено разграничение между Россией, Афганистаном и Китаем на Памире. Россия получила право содержать свои военные гарнизоны на Западном Памире (Горном Бадахшане). После покорения Россией Кокандского и Бухарского ханств охрана границ приобретенных земель туркестанского края с 1870 года осуществлялась в основном пехотными полками и казаками.
В 1867 году в Туркестанском генерал-губернаторстве была учреждена таможня как государственная структура, которая спустя год была упразднена, тем самым граница была открыта для беспошлинной торговли английскими товарами на среднеазиатском рынке. В 1881 году исполняющий делами Туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенант Колпаковский учредил "Положение о таможенном надзоре". В 1882 году таможенный надзор в Средней Азии был сформирован из таможенных постов, в том числе в Амударьинской отделе - 3 поста, в Зерафшанском округе - 5 постов, в Сырдарьинской области - 19 постов. В 1894 году все посты таможенного надзора организационно вошли в Закаспийский и Туркестанский таможенные округа. Одновременно в 1882-1886 года начался процесс организации пограничной стражи на участке бухаро-афганской границы.
В 1886 году для охраны бухаро-афганской границы был сформирован гарнизон в Керки. В тот период в России совершенствование охраны границы шло по нескольким направлениям. В первую очередь, совершенствовались пограничная стража, регулярные и казачьи войска, несшие службу в Средней Азии.
2 мая 1886 года таможенная часть Туркестанского генерал-губернаторства передается в ведение Министерства финансов, в управлении Туркестанского края вводится должность чиновника особых поручений по таможенным делам, на которого возложено руководство действиями местных таможенников по взиманию сборов, а также предупреждение и пресечение контрабанды, надзор за действиями погранстражи. Однако таможенный округ в Туркестане оказался больше любого из таможенных округов европейской части России. Поэтому 12 июня 1890 года был разделен на два округа: Туркестанский и Семипалатинский. В сентябре 1892 года в местечке Шаджан на Восточном Памире был сформирован первый пост. 15 октября 1893 года Александр III подписал Указ правительствующему Сенату, по которому из состава Департамента таможенных сборов был выделен Отдельный корпус пограничной стражи (ОКПС), оставленный в составе Министерства финансов. Создание ОКПС завершило переход от таможенной стражи к войскам, что приравнивало его к военному ведомству. Регулярные войска, главным образом, пехота и казаки продолжали охранять в Средней Азии границу Туркестанского края до 1894 года.
При проведении реорганизации погранстражи было учтено мнение генерал-лейтенанта Н.А.Усова о нецелесообразности установления пограничного надзора по всей линии границы от Красноводска до Памира на 3000 верстах, что потребовало бы больших средств на содержание стражи. Он считал, что товар из-за границы направляется в Бухару по старой Пешеварско-Кабульской дороге, ввиду отсутствия пограничного надзора. Для пограничного надзора Усов предложил в составе Закаспийского таможенного округа учредить 5 дистанций из 30 постов, в Туркестанском округе - 4 дистанции из 26 постов, с общим штатами: старших постов - 55, их помощников - 110, джигитов - 546.
В 1894 года Государственный совет, рассмотрев представление Минфина от 13 апреля 1894 года об обустройстве пограничного надзора в Средней Азии, решил учредить его в Закаспийской области и на правом берегу рек Пяндж и Амударья. 6 июня 1894 года Николай II утвердил это решение, подписав закон "Об обустройстве пограничного надзора в Средней Азии". 9 декабря 1896 года Николай II утвердил мнение Госсовета о преобразовании в течение трех лет, начиная с 1897 году, пограничного надзора в Средней Азии в две бригады. В этом же году была сформирована 31-я Амударьинская пограничная бригада со штатом 915 человек.
Штаб бригады располагался в Патта-Гиссаре (Новый Термез), на расстоянии 1,2 км от берега Аму-Дарьи. На участке в 11 гектаров, отведенном эмиром бухарским Саидом Абдулахадом под строительство штаба бригады, раскинулся целый военный городок. В нем был разбит большой парк, среди плодовых и декоративных деревьев вышагивали павлины, в искусственном пруде плавали лебеди. Здесь же была выстроена первая на участке Амударьинской бригады церковь. 30 офицерских домиков, бригадный лазарет, офицерское собрание, баня, а также большие казармы в двух километрах, отличались оригинальностью архитектуры. Все это было построено под руководством первого командира бригады полковника М.М. Костевича в течение четырех лет. Существовавшие до этого дистанции, протяженностью от 150 до 400 верст, были реорганизованы в отделы.
Амударьинская бригада делилась на четыре отдела: штаб 1-го отдела располагался в Чарджуе, 2-го - в Патта-Гиссаре, 3-го отдела - в Сарае (нынешнее месторасположение Пянджского пограничного отряда), 4-го - в Йоле). В них имелся 51 пост, в том числе - 15 обер-офицерских. Каждый обер-офицер командовал 3-4 унтер-офицерскими постами. Посты, находящиеся под командованием, составляли отряд. 3-4 отряда под командованием штаб-офицера составляли отдел. Посты располагались на расстоянии 10-15 км друг от друга. В 1900 году в Калай-Хумбе пост был снят ввиду труднодоступности района для подвоза продовольствия, фуража и вещевого имущества. При бригадах, как и прежде, до 1910 года несли службу джигиты из местного населения.
Бухаро-афганская граница проходила по песчаной пустыне, большим высотам Садар-Джагры к Тахта-Базару, на реке было много островов, где контрабандисты легко скрывали товары, а затем переправляли на российскую территорию. Посты пограничной стражи располагались в тех местах, где наиболее вероятны были акции совершения контрабандных сделок - около пристаней, на мелководье, на пересечениях главных дорог. Частично посты были снабжены шлюпками. Большую работу по закладке постов проводили инженеры, которые с учетом рельефа местности умело и рационально возводили фортификационные сооружения. В зависимости от места расположения постов сооружения воздвигались из сырцового кирпича или из камня, без деревянного пола. Дерево завозилось из Сибири, поэтому стоило дорого.
Пограничная дорога, проложенная русскими инженерами от Термеза до Шагона, а затем и до Калай-Хумба, представляла собой цепь труднопроходимых препятствий. В камышовых зарослях вдоль берега Пянджа пограничников подстерегали дикие животные - бенгальские тигры, барсы, камышовые рыси, кабаны. Опасность представляли змеи, скорпионы, фаланги, каракурты. Вследствие этого в целях безопасности на участках Сарайского и Йольского отделов создавались охотничьи команды по отстрелу хищников.
Служба и бытовые условия жизни пограничников Амударьинской бригады были крайне тяжелыми. Ощущалась оторванность от внешнего мира, отсутствие культурных учреждений, отчужденность коренного населения, эпидемиологическая обстановка. В летнее время удельный вес больных малярией доходил до 50%. Самыми благоприятными считались посты Йольского отдела. Сюда стремились попасть служить большинство офицеров и нижних чинов.
Как свидетельствует статистика, пограничники Амударьинской бригады проявляли образцы служебного рвения. В 1907 году в Туркестанском таможенном округе было задержано контрабанды на 12,5 тысячи рублей, тогда как в Батумском - на 2,4 тысячи, Бакинском - на 6,4 тысячи.
Высочайшим императорским приказом от 7 мая 1899 года в числе других пограничных округов был создан 7-й пограничный округ со штабом в г. Ташкенте, в состав которого вошли Закаспийская и Амударьинская пограничные бригады, первым начальником округа стал генерал-майор А. Куницкий. В состав 7-го пограничного округа вошла вся территория тогдашнего Туркестанского края, включая и участки границы Китая с территорией современного Киргизстана. В Закаспийской области и на правом берегу рек Пяндж и Амударья (бухаро-афганская граница) на смену войскового прикрытия границы пришел пограничный надзор Закаспийской со штатом 1390 солдат, подчиненная начальнику Закаспийского таможенного округа, и Амударьинской бригад ОКПС со штатом 915 солдат, подчиненная начальнику Туркестанского таможенного округа. Несмотря на принятые меры, бригады испытывали большие трудности, прежде всего из-за недостатка личного состава. В ходе организации службы помогали армейские части.
В последующие годы принимались меры по усилению среднеазиатской границы. В 1899 году в штаты бригад были добавлены ряд офицерских должностей, а также должности нижних чинов. С января 1896 года ежегодно ассигнуется 4130 рублей для выдачи пособий джигитам (до 70 рублей) и возмещение расходов на содержание лошадей и 4500 рублей - на выдачу наград "за усердную и полезную службу". На бухаро-афганском участке границы (766 верст) трудности в охране границы объяснялись не только малочисленностью постов по отношению к протяженности границы, но и отсутствием надежных плавсредств. В 1913 году охрану границы с Афганистаном усилили за счет перераспределения сил ОКПС. Был упразднен Репидский отряд 22-й Измаильской бригады и сформирован новый, Богоракский отряд Амударьинской бригады.
Главной обязанностью ОКПС являлось "отвращение тайного провоза товаров по сухопутной и морским границам европейской части России и Закавказья, по границам Великого княжества Финляндского и Закаспийской области, на правом берегу рек Пяндж и Аму-Дарьи".
Из Афганистана переправлялись не только контрабандисты, но и разбойничьи шайки, которые занимались грабежом местного населения, захватом заложников, уводили скот, оказывавших сопротивление убивали. Пограничники, своевременно оповещенные об этих акциях, решительно пресекали эти действия.
На корпус также был возложен карантинный надзор на границе, надзор в политическом и полицейском отношениях в интересах МВД. Таким образом, в первую очередь среди задач, стоявших перед ОКПС, выступала борьба с контрабандой. Причем ранее и даже после создания корпуса лица, задержанные в пограничной полосе, направлялись не в полицейский участок, а в таможенные учреждения, что свидетельствовало о превалировании экономических интересов над политическими. Появилась и новая задача - охрана пограничной черты, то есть границы, о чем в прежних документах даже не упоминалось. Данная задача по важности была поставлена на третье место, но через несколько лет она выдвинется в службе пограничников чуть ли не на первый план. В то же время, пограничникам не возбранялось пересечение границы при преследовании бандитских группировок, вооруженных контрабандистов "в случае крайней к тому необходимости".
С учетом специфических условий охраны границы, пограничникам, служившим в Средней Азии разрешалось даже за пределами 7-верстной от границы черты применять холодное и огнестрельное оружие в случаях, когда они подвергались нападению или встречали сопротивление со стороны вооруженных контрабандистов или других злоумышленников, и даже в тех случаях, когда контрабандисты или иные лица не были вооружены, но с их стороны обнаруживалось "хотя бы одно намерение причинить чинам стражи побои или иные насилия". Запрещались лишь стрельба в горах и селениях "во избежание несчастных случаев".
На участке Амударьинской бригады для облегчения торговых связей с Афганистаном был установлен особый режим. Купцов через посты пограничной стражи пропускали помимо таможенных учреждений, однако при соблюдении условия: никто не пропускается в Афганистан и обратно без паспортных видов или записок, заверенных чинами русской администрации.
Охрану границы подразделения ОКПС осуществляли посредством несения сторожевой и разведывательной службы. Сторожевая служба возлагалась на отряды и осуществлялась круглосуточно. Участок отряда назывался дистанцией. Глубина дистанции отряда составляла 7 верст на Европейской границе и до 21 версты на Азиатской границе. Среднесуточная нагрузка на человека по несению службы составляла 9 часов. Продолжительность единовременного несения службы в наряде не превышала 6 часов. Несмотря на высокую продолжительность службы нарядов, плотность охраны в Амударьинской бригаде составляла - 0,7, в Закаспийской - 0,6.
Проверку несения службы осуществляли разъезды. Более того, усиление контрабандного промысла и низкая эффективность действий по пресечению контрабанды заставили структуры пограничной охраны создать собственную разведывательную службу. Разведывательная служба организовывалась начальниками округов и велась в пограничной зоне в тесном контакте с представителями отдельного корпуса жандармов. Руководил разведкой командир бригады, а непосредственно ее вели командиры отделов, отрядов, старшие вахмистры и помощники начальников постов. Разведывательной службой должны были заниматься все командиры и начальствующие лица ОКПС. Основной упор в разведывательной службе делался на агентурную сеть.
Циркулярами отмечалось, что "безуспешность действий чинов в преследовании контрабанды объясняется между прочим неумением отличать правильные доносы от доносов, сделанных для отвода глаз... На приобретение хороших благонадежных доносителей труды и даже денежные средства никогда не пропадут даром и при достаточной энергии всегда вознаградятся с избытком".
Для материального стимулирования агентов правительство выделяло немалые денежные средства. Задачами разведывательной службы являлось дать сведения: о значении местности в контрабандном отношении; о направлении движения и характере контрабанды; о лицах, занимающихся контрабандным промыслом. На ведение агентурной работы в ОКПС правительство также выделяло большие средства. Так, расходы в 1912 году в 7-м округе составили 223 руб. 91 копейка. В то же время, к охране границы еще не привлекается достаточно широко местное население, которому, в силу пребывания в составе империи, пока высказывается определенное недоверие: "Хотя вольнонаемные джигиты неоднократно признавались весьма полезными и даже необходимыми, тем не менее, предоставление им самостоятельности не должно было допускаться, так как легко могли последовать серьезные недоразумения".
Характер товаров, доставляемых в Россию, зависел от участка границы. В Средней Азии завозились преимущественно наркотики. По происхождению эти наркотики были различны: задерживался опиум китайского, индийского, афганского и, особенно, персидского происхождения. Здесь же чаще происходили нарушения границы, причем нередко с применением оружия.
Тем не менее, даже к первой мировой войне этот участок был по-прежнему слабо защищен в войсковом отношении. В 1912 году командир ОКПС генералом от инфантерии Николай Аполлонович Пыхачев (занимал пост в период 1908 - 1917 годах) проинспектировал части 7-го пограничного округа, в ходе которого проверил состояния пограничного надзора, удовлетворение религиозных потребностей пограничников, делопроизводство, строевое и стрелковое дело, денежные отчеты. Инспекцией был сделан вывод: "Охрана границы во всем округе отличается до сего времени крайней слабостью, и вся деятельность постов проходит главным образом в самообслуживании. Руководства со стороны начальников делом охраны границы на местах нет".
С 1883 году на "Посту Памирском" (ныне Мургаб) располагался штаб Памирского пограничного отряда, позднее перенесенный в Хорог, который охранял и южные границы Киргизии. Памирский отряд имел целью, как отмечалось в документах: "охранение наших киргизских кочевников и вообще наших интересов в Памирском крае и обеспечение спокойствия и безопасности юго-восточных пределов Ферганской области".
Кстати, здесь в 1916 году на высоте 2600 метров над уровнем моря завершилось строительство русской православной церкви, длившееся пять лет. Освящение храма совпало с 25-летием создания Памирского погранотряда, что подчеркивало важность этого бастиона духа для воинов-порубежников на одном из самых сложных участков российской границы.
В состав Памирского отряда входили: батальон пехоты, 3 казачьи сотни и 4 орудия. Казаки составляли ядро подобных частей. Они размещались по постам на значительной территории, население которой фактически находилось в ведении начальника отряда, пользующегося правами начальника уезда и подчиненного по исполнению своих административных обязанностей военному губернатору Ферганской области. Осенью 1895 году в Рушане, в кишлаке Калаи-Вамар, в Шугнане, в кишлаке Хорог, а весной 1896 году, в кишлаке Зунг были организованы русские пограничные посты.
На территории соседней Киргизии в Суфи-Кургане, Ак-Босого, Сары-Таше и Бордобо имелись маленькие пограничные пикеты, главной задачей которых было поддержание связи с Хорогом. С этой целью на каждом пикете круглосуточно дежурил один казак с поседланным конем для передачи почты эстафетой.
После Ионова русскими войсками на Памире последовательно командовали капитаны Зайцов, Скерский, Сулоцкий, Эгерт, Кивекс, Снесарев (с июля 1902 года по июль 1903 года). Снесарев так описывал службу пограничников: "Деятельность чинов Памирского отряда по своему разнообразию и оригинальности является в такой мере интересной, что тяготы и лишения, неизбежные при суровой и бедной природе Памиров, в значительной степени облегчаются приподнятым настроением работников и сознанием плодотворности результатов трудов".
О характере деятельности Памирского отряда, об отношениях коренного населения с пограничниками позволяют судить письма Снесарева сестре: "Два дня назад возвратился... и застал значительное смятение: бухарцы в мое отсутствие начали грабить народ... Написал резкое письмо беку, выругал бухарского чиновника... Жду ответа от бека, народ успокоился... Словом, неделя или более выпала тревожная; особенно боялся, что придется по своему решению переходить границу с военными целями; страшно было не идти против 300 англичан (как я думал) с 50 человек своих, а начинать это дело по своему почину, без разрешения. ... кроме своих людей (до 300), у меня будет свыше 2 тысяч кара-киргизов и до 15 тысяч таджиков, хотя подвластных Бухаре, но весьма зависящих от меня. Кроме того, граница Памира теперь крайне тревожна: наступают из Индии мои друзья-англичане... Среди волнений и невроза моим утешением является отношение ко мне народа... Я чувствую, что если я вылечу отсюда, то именно за этот забитый, несчастный народ, за который я уже грызся с беком, ругал его чиновников и за который я буде стоять, чего бы это мне ни стоило".
Командир Шанджского поста штабс-капитан Кузнецов докладывал о несении службы в 1892-1893 годах: "Дабы, с одной стороны, быть готовыми каждую минуту выполнить назначение отряда, а с другой стороны, по возможности развлекаться и не скучать, с чинами отряда велись все те строевые занятия, которые предписано вести как в мирной обстановке, так рано и при военной. К числу последних, так сказать, вызванных обстановкой, нужно отнести: разведывательную и охранительную службу, дневные и ночные тревоги и маневрирования. В первое время, когда чины отряда еще не освоились с климатическими условиями Памира, приходилось давать весьма частые отдыхи, чтобы не утомить людей, и, несмотря на это, были довольно часто приступы горной болезни, а ночные тревоги способствовали развитию заболеваний дыхательных путей, главным образом, воспалению гортани... Попав в новый для них суровый климат, солдаты и офицеры сумели быстро приспособиться к этим условиям и с успехом выполняли поставленную задачу. А против тоски по Родине устраивались во дворе игры в мяч, городки, крокет, и.п., пение, танцы и игры на гармошках, а во время больших праздников - спектакли".
Шведский путешественник Свен Гедин, побывавший на Памире в 1894 году оставил описание Памирского поста: "На путешественника-иностранца Памирский пост производит самое отрадное впечатление. После долгого утомительного пути по необитаемым, диким горным областям попадаешь вдруг на этот маленький клочок великой России, где кружок милейших и гостеприимнейших офицеров принимает вас как земляка, как старого знакомого. В общем Памирский пост живо напоминает военное судно. Все люди отличались образцовой молодецкой выправкой, долгая холодная Памирская зима, которую гарнизон проводит в этой пустыне, почти в таких же условиях, как и полярные мореплаватели в замерзших во льду судах, нисколько не отражались на них - ни следа вялости, апатии, равнодушия".
Благодаря непосредственному участнику многих из описываемых событий Борису Тагееву, до нас дошло описание процесса строительства и укрепления Памирского поста: "Работа кипела дружно, и сердце радовалось при виде этих сотен людей, сооружающих на "крыше мира" уголок, в котором придется им провести суровую зиму и откуда русский флаг, как доказательство могущества России, будет виден всему свету. Изо дня в день кипела работа, и укрепление незаметно вырастало. К 25 августа фасы были готовы, ров очищен, устроены барбеты для пулеметов. По типу своему укрепление это представляло редут усиленной полевой профили, почти квадратной формы, с барбетами в двух передних углах для пулеметов и орудий. Впоследствии вместо улиток военным инженером Серебренниковым с помощью только небольшого гарнизона Памирского поста были сооружены полууглубленные землянки, каждая на полуроту, удобно приспособленные для помещения нижних чинов гарнизона и сложенные из сырцового кирпича с достаточным количеством света. Над землею они возвышаются немного менее двух аршин и благодаря великолепно устроенным печам и крыше вполне защищают живущих в них от холода и сырости, о чем вполне свидетельствует хорошее состояние здоровья чинов памирского гарнизона. Лазарет и кухня находятся в двух отдельных зданиях, поставленных над землею также из сырцового кирпича. Кроме этих зданий там же поставлен флигель (над землею), служащий жилищем для офицеров, имеющих в нем каждый по отдельной комнате, за исключением начальника отряда, которому отведено их две. Офицерская столовая, заменяющая собрание, дополняла комфорт памирского жилища. Склад вещей, пороховой погреб и метеорологическая будка находятся также в укреплении, а вне его построена только баня. Все здания и само укрепление капитально выстроены по проекту и под руководством военного инженера Серебренникова, имя которого останется памятным в истории присоединения Памира. Он при невероятно тяжелых условиях построил первое русское укрепление на "крыше мира", которое явилось на Памире истинным чудом". Шведский путешественник Свен-Гедин, долго работавший на Памире, неоднократно посещал наше укрепление и следующим образом отзывается о нем в своих корреспонденциях в "Туркестанских ведомостях". "Крепость, - говорит он, - выстроена удивительно хорошо и практично и делает честь офицерам, которым принадлежит инициатива в этом деле. Я уверен, что пришлось преодолеть громадные затруднения, чтобы достичь до этого великолепного конца, который свидетельствует, что значит энергия и предприимчивость..."
Начальник инженеров Туркестанского военного округа генерал-майор Клименко в августе 1894 года осматривал постройки памирского укрепления и нашел, что "все выполненные войсками работы по возведению укрепленного поста с зимними бараками и землянками вполне удовлетворительны и заслуживают величайшей похвалы, особенно за выполнение таких работ в самый короткий срок, с 23 июля по 31 октября 1893 года, при весьма ограниченном числе рабочих рук". В настоящее время около укрепления раскинулся небольшой базарчик, где продаются привезенные из Ферганы необходимые жизненные продукты. Здесь же в небольшой чайхане собирались местные киргизы и постовые джигиты поделиться новостями и, затягиваясь крепким кальяном, попивать горячий кок-чай, и солдатики частенько заходили к гостеприимному мама-джану, хозяину чайханы, у которого к их услугам имелось все в запасе: и гвозди для сапог, и туземный сахар-леденец и сушеные фрукты к чаю".
Генерал-майор М.Дж. Герард, руководивший в 1895 году Британской частью Пограничной Комиссии, проходя по Памиру, убедился, что русские укрепились в этом регионе вполне основательно. На Мургабском Памирском посту члены русской делегации и генерал Герард застали отряд, состоявший из 80 пехотинцев, 12 казаков (с двумя пулеметами) и 14 музыкантов. Основная часть этого отряда в дальнейшем сопровождала британского комиссара до Оша, причем русские солдаты, и особенно казаки, вызывали у него нескрываемое восхищение: "Жизнерадостность и незаменимость казаков в течение всего перехода были вне всяких похвал. Когда мы выступали по утрам, вахмистр затягивал какую-нибудь песню, которую весь отряд подхватывал хором, и хотя пение, возможно, и не обладало самым высшим качеством, но среди этой пустынной глуши оно имело какое-то необычное, сверхъестественное очарование, которое было весьма привлекательным. Стоило лишь спешиться, снять плащ или начать охотиться на каком-нибудь близлежащем озере, как кто-то из них всегда, без какого-либо призыва, оказывался рядом с вами для того, чтобы подержать вашего коня, принести шубу или ружье и вообще помочь; а каждой ночью вне зависимости от того, насколько жестокой была метель, они все выстраивались с непокрытыми головами перед своими юртами и пели вечернюю молитву. Их рационом, не считая хлеба и чая, был главным образом суп - великолепный наваристый горячий борщ, которым мы часто угощались сами, а они могли доливать его себе "a discretion". Немногие наказания, которые применялись на марше, обычно за упущения в уходе за лошадьми или в выправке, были в какой-то мере комичными. Казак в полной походной выкладке, с седлом, привязанным на спине, должен был стоять с саблей наголо в течение часа или более перед палаткой своего капитана".
Генерал-майор Герард отметил, что в те немногие годы, которые прошли со времени присоединения Памира к России, русские военные и строители значительно усовершенствовали существовавшие ранее караванные тропы и построили новые дороги в этой суровой горной стране, в частности, созданный под руководством полковника Б.Л. Громбчевского в 1893 году исключительно трудный участок дороги, обеспечивающий спуск с перевала Талдык посредством 34 серпантинов. Его также поразили вопросы организации управления российскими среднеазиатскими областями и отношения русских властей к местному населению. Власти, по сути дела, совершенно не вмешивались в традиционный образ жизни местного населения. Единственными ограничениями, наложенными русскими, были запрещение ношения оружия и вынесения приговора о смертной казни жителями среднеазиатских владений Российской империи. Истинное восхищение британского генерала вызвало великолепное состояние личного состава российских войск. В противовес Памирскому посту Афганистан выставил гарнизон, включающий около 500 всадников и 500 пехотинцев; деньги на содержание этих войск по требованию эмира Афганистана были выделены англичанами.
В 1898 году царское правительство утвердило временный пост в Ташкургане Сарыкольском, а в 1901 году этот пост с согласия китайской стороны был сделан постоянным. В одном из кашгарских писем прикомандированный к Генеральному консульству России в Кашгарии в качестве военного наблюдателя выпускник Академии Генерального штаба штабс-капитан Л.Г. Корнилов писал: "Хуже всего, если пост в Ташкургане уберут: это будет позорное отступление".
Начиная от Восточного Памира, российско-китайская граница практически на всем своем протяжении, в этот период времени охраняется не войсками ОКПС, а казачьими войсками, а кое-где армейскими подразделениями. Например, в Караколе была дислоцирована рота. В докладной записке Николаю II главноуправляющего землеустройством и земледелием князя Б.А. Васильчикова отмечалось, что "безлюдье" в восточных районах представляет опасность для русского государства: "Китай не дремлет и предпринимает целый ряд шагов для быстрого заселения пограничных с Россией пространств. Нельзя дремать и нам". Император напротив этих слов написал: "Вполне согласен". Снесарев в свою очередь писал: "Надо смирять Китай не языком дипломатов. А планомерной экономической системой, неустанной работой по укреплению и заселению окраины". Семиреченское войско стало искусственным барьером между китайскими землями и кочевниками Средней Азии, в неспокойном мире которой царской власти нужна была постоянная опора для стабилизации положения и охраны внешних рубежей. Крестьян для переселения в столь далекий край было трудно организовать из-за отсутствия железных дорог. Выход виделся в казачьей колонизации, основой которой должны были стать сибирцы, уже бывшие в этих краях, знающие язык и традиции коренного населения. Планы заселения казаками предусматривались и для территории Киргизии - в 1860 году предполагалось поселить в Пишпеке 50 семей, в Токмаке - 25, а линию казачьих поселений продлить до Иссык-Куля и Нарынского края.
В конце XIX века казачество представляло собой хорошо отлаженный организм, которым умело управляло царское правительство. Его мероприятия были направлены на то, чтобы ввести большее единообразие в казачьи войска и регулярные армейские части, продолжить стирание межсословных различий казачьего и остального населения страны.
Характерной особенностью казачьих войск в эти годы было продолжающееся реформирование, обусловленное спецификой каждого войска, новым вооружением, менявшейся тактикой борьбы и другими причинами. Решаемые войсками задачи налагали отпечаток на их организационные структуры, порядок комплектования, прохождения службы. На их деятельность оказывали влияние также административное устройство регионов, правительственная политика в данном районе. Положение в сопредельных государствах.
Как и прежде, порядок прохождения службы казаков определялся не только Законом о прохождении службы, но и императорскими указами, решениями Военного совета, специальными положениями, утвержденными императором. Они были направлены на четкое определение прав и обязанностей казаков.
К 1893 году были утверждены новые положения о Семиреченском казачьем войске. В 1910 году, в связи с упразднением Главного управления казачьих войск, руководство казачьими войсками перешло в Главный штаб. Численность Семиреченской казачьего войска в начале XIX века составляла 26 тысяч человек.
Военное и гражданское управление, несение службы войск было организовано на основаниях, общих для всех казачьих войск, но с учетом особенностей каждого из них. Семиреченское войско подчинялось туркестанскому генерал-губернатору как командующему войсками туркестанского военного округа. Непосредственное командование было вверено наказному атаману, звание которого было присвоено военному губернатору и командующему войсками Семиреченской области. В станицах казаки возглавлялись станичными атаманами, подчиненными наказному атаману.
Ежегодно в смете Военного министерства по Главному управлению казачьих войск были предусмотрены дополнительные средства для нужд казачьих войск. Как правило, они имели целевое назначение.
На территории Киргизии казачьи поселения появились к концу XIX века. Очевидец событий 1875-76 годах на Памиро-Алае рассказывал, что "народ повсеместно ликует, узнав о присоединении к России. По дороге жители кишлаков встречали российские войска радостно, везде достархан. Командование казачьих подразделений, шедших в авангарде российских войск к намеченным новым границам, было кровно заинтересовано в хороших отношениях с местными жителями". Казаки несли сторожевую службу на границе в пределах казачьих войск наряду с таможенной стражей. Главной задачей казачьих формирований была защита территории и населения приграничных районов от вторжений бандитских групп из-за рубежа. Казачьи полки выставлялись из расчета один на 150 верст. Каждый полк из числа своих 10 сотен пять выставлял непосредственно на охрану границы.
В становлении новых российских границ участвовали и киргизские добровольцы, заинтересованные в стабильном положение в крае, северные киргизские джигиты под командованием Шабдана Джантаева участвовали и в присоединении к российским владениям Южной Киргизии.
Весной 1876 году более 600 киргизских кибиток обосновались вблизи казачьего крепостного укрепления Гульча. В 1885 году на правом берегу реки Кызыл-Су возводится пограничное укрепление Иркештам, в котором, сменяясь, всегда находился взвод казаков. Это был обширный прямоугольник, обнесенный высокой стеной с бойницами и редутом в виде широкой башни, где располагались и казармы для казаков. Иркештам запирал ущелье, прикрывая расположенный ниже таможенный пост N.399, который успешно боролся с контрабандой. Казаки располагались также походными лагерями. В 1881-1882 годах в Гульче, а в Иркештаме - в 1889-1917 годах казаки вели метеорологические наблюдения.
Областное начальство пыталось на примере выселка Занарынского (Куланак), расположенного в глубине Тянь-Шаня - в 400 км от Пишпека распространять специфический опыт казачьих поселений. Это стратегически важное поселение перекрывало дорогу контрабандистам и заодно обеспечивало безопасность кочующим скотоводам. Казаки (здесь проживало около 100 семей) были надежны, выносливы, хорошо знали местные горы, язык и традиции киргизов. В то же время, отличаясь особой добросовестностью по несению пограничной службы, казаки порой упускали из виду свое хозяйство. Посетивший казачьи поселения наказной атаман М.А. Фольбаум был недоволен тем, что: "сельское хозяйство казаков, несмотря на все благоприятные условия для его процветания, повсюду в области на низком сравнительном уровне".
В Семиреченском войске существовал территориальный принцип формирования и пополнения казачьих частей: по признаку совместной службы родственников или близких соседей и станичников, что создавало товарищескую спайку в мирное и военное время и уверенность во взаимопомощи, а также служило контролем на местах по принципу семей патриархальности.
Свои задачи казачьи войска решали во взаимодействии с министерствами финансов, внутренних дел, военным ведомством и другими государственными структурами. Наиболее тесным было сотрудничество с гарнизонами пограничных и армейских частей, расположенными вдоль границы. Казачьи войска активно привлекались для исполнения обязанностей карантинной стражи, преследования вооруженных нарушителей и противодействовали прорыву банд. Несмотря на оговорки и уточнения, которыми сопровождались служебные инструкции различных ведомств, стремящихся отстоять свои интересы, во многих документах прямо подчеркивалось, что в 7-верстной пограничной полосе "право распоряжаться всеми действиями принадлежит пограничной страже".
Помимо централизованного войскового наряда на службу назначался наряд приказами по округам и станицам. На службу были "задействованы" все казаки вплоть до ополченцев. При этом значительная часть казаков несла службу вне войска в строевых частях, вдали от своих станиц. На границе, по наезженной тропе, через определенные промежутки времени, сменяя друг друга, проезжали конные казачьи разъезды. А в сумерках, в туман в особо опасных местах устраивали засады (2-3 казака). Многое в борьбе с контрабандистами зависело от смекалки и находчивости казаков. И он преуспели в этом важном деле, прекрасно ориентируясь на местности, отлично владея оружием, зная повадки и ухищрения нарушителей. Хорошим подспорьем в охране границы было высокогорье.
Наиболее действенными мерами против них были упреждающие действия казаков и хорошо поставленная разведывательная служба. Посылка разведывательных разъездов дала "возможность меньше отвлекать казаков от полевых работ и не вводить казну в излишние расходы". Каждый казачий разъезд представлял рапорт, отчет, а иногда и дневник о проведении разведки. Добротные сведения позволяли более рационально распорядиться имевшимися силами и средствами.
Режим границы в это время был достаточно либеральным, подданным России и Китая не было необходимости иметь какие-либо документы для прохода через кордоны и посты пограничной охраны. Долгое время отношения казаков с коренными жителями были прекрасными. Они строились на взаимовыгодном сотрудничестве. В то же время, со времени первого использования казаков в подавлении антиправительственных выступлений - сразу же после присоединения Киргизии к России, станичники не переставали выполнять и внутренние охранительные, а то и просто полицейские функции. Государство использовало казаков в качестве главной карательной силы.
С началом первой мировой войны казачьи станицы обезлюдели. Из 45 тысяч населения Семиреченского войска (обоего пола, включая детей и стариков) мужчины призывного возраста (3,5 тыс.) были призваны на фронт - в Персию и на Кавказский фронт, где составили три полка и несколько отдельных сотен. Несколько сотен, как и до войны, находились в Кульдже, Чугучаке и Кашгаре при российских консулах. В 1915 году было собрано в Семиречье и отправлено на фронт 7500 винтовок. Из Пржевальского и Пишпекского уездов было призвано на фронт 4700 человек. Фактически, как отмечал генерал-губернатор Туркестана, население, имеющее до 2000 русских, охранялось пятнадцатью нижними чинами. Об охране границы в полном объеме и речи быть не могло.
О состоянии пограничных отношений на тот момент на среднеазиатском участке российско-китайской границы можно судить по высказыванию Л.Г. Корнилова. Будущий белогвардейский генерал в начале прошлого века отмечал: "Пока еще наиболее солидной гарантией внутреннего спокойствия в Кашгарии и неприкосновенности ее границ является соседство могучей России и миролюбие ее, доказанное всей историей наших отношений с Китаем".
Заложенные Россией на Востоке в XIX веке основы охраны государственной границы в последующем сослужили добрую славу в обеспечении пограничной безопасности региона. Обращаясь к наследию А.Е. Снесарева, следует отметить, что "охранение Россией востока и юго-востока Европы ... является большой услугой на алтаре грядущих судеб Европы и мира".
К концу XX века абсолютно верным оказалось предвидение А.Е. Снесарева, указавшего на то, что именно "под южным солнцем Афганистана" зреют "события крупного масштаба", которые "в скором будущем отзовутся на берегах Невы и Темзы". Снесарев, признанный знаток Средней Азии, обращался к потомкам, как бы предугадывая снятие Россией своих часовых с центральноазиатских границ: "Наш взор слишком часто поворачивается на Запад, но я, как азиат, люблю его повернуть на восход солнца; оттуда идут роковые загадки и не менее роковые решения. И когда я смотрю на восток, то прежде всего думаю о киргизах, которых лично люблю и ценю, но которые не находят еще себе должной оценки у других; и думаю я в эти минуты: а что, если на нас вправду навалится желтая рать, будут ли тогда киргизы ее авангардом, как в годы налета Чингиса, или они составят наш первый оплот против грозного врага с Востока. Думать об этом, во всяком случае, нужно".
Актуальным является сегодня и еще одно высказывание Снесарева: "Экономические завоевания идут теперь впереди военных. Не та нация сильна, которая завалила всю страну штыками, а та, которая держит в своих руках сети экономических завоеваний!". Спустя век, подтверждая правоту Снесарева, другой российский генерал Андрей Николаев пишет: "Одной из приоритетных геополитических задач России является сохранение необходимой степени влияния на территориях, некогда входивших в состав Российской империи и Советского Союза. В сущности, в этой мысли нет ничего нового. Поддержание мирных добрососедских отношений и взаимовыгодных многосторонних контактов с пограничными государствами - важнейшая внешнеполитическая задача для любой мировой державы. Поэтому внешнеполитическая цель России в странах ближнего зарубежья - уйдя остаться. Если Россия хочет сохранить свое присутствие на этих территориях, она должна, прежде всего, опираться не на военную силу, а на культурные и экономические возможности".
Выгодно ли русским останавливаться на половине дороги?
Громбчевский Бронислав Людвигович - генерал, путешественник, исследователь Средней и Центральной Азии (1855-1926 гг.). В 1885 году Громбчевский командируется в Кашгарию, где ему как представителю России в русско-китайской пограничной комиссии удалось осмотреть приграничные горные районы и описать 12 горных перевалов на восточных окраинах Алая и Алайку, а также совершить путешествие по югу Кашгарии до Хотана. В 1886 году он из Ферганы по Кегартской долине направляется на Средний Нарын и Суусамыр с целью изучения вопросов разграничения Ферганской и Семиреченской областей.
Известна по этим экспедициям переписка капитана Громбчевского с военным министром, Российским Императорским географическим обществом, согласно которым были выделены конвой, деньги и подарки для правителей и 3-х месячная командировка Громбчевского в Санкт-Петербург после окончания экспедиции для отчета.
В 1888 году и в 1889-90 годах во главе 2-х экспедиций Российского Императорского Географического общества он побывал в малоизвестных странах Средней Азии и Центральной Азии, на Памире, где изучал там природу, социально-экономические условия, общественный строй, собрал географические, зоолотические, историко-этнографические коллекции, лингвистический материал.
Главный штаб Военного министерства письмом от 26 апреля 1891 года сообщалось в штаб Ферганской области: "Подполковник Громбчевский с разрешения военного министра был уволен в отпуск за границу на 2 месяца для поправления здоровья. Отпуском, однако, он не воспользовался, так как до сего времени задержан в Петербурге для представления Государю Императору альбома привезенных им фотографических снимков. Его Величество (так в архиве) изволило изъявить желание, чтобы альбом этот был поднесен лично подполковником Громбчевским".
ДОКЛАД подполковника В. Л. Громбчевского,
прочитан им в Николаевской Академии Генерального Штаба 14 марта 1891 года
Англо-русским соглашением 1872-73 г. условлено было между обоими государствами, что влияние России не должно распространяться на левый берег Пянджа, а влияние Англии - на правый. Соглашение это в 1883 г. нарушено было англичанами, которые побудили авганцев занять Шугнан, Рошан и Вахан, т.е. памирские ханства, причем сфера влияния Авганистана распространилась далеко на правый берег Пянджа и достигла до окраин Памира. Министерство иностранных дел, хотя и опротестовало столь существенное нарушение договора, но, в виду политических событий того времени, английское правительство нашло возможным не удовлетворить законных требований нашего министерства и занятые провинции остались во власти Афганистана.
Осенью 1888 года разразились события, хорошо памятные всем интересующимся судьбою Средней Азии. События эти поразили своею неожиданностью и доказали наглядно непрочность и отсутствие внутренней связи в таком сильном, повидимому, государстве, как Афганистан. Если бы не великодушие и беспримерное в летописях безкористие России - весь Северный Афганистан вошел бы в состав империи, и Россия встала бы твердою ногою на Гиндукуше. Оплот, воздвигнутый англичанами против России и поддерживаемый ценою громадных материальных затрат, а именно: выдачею 1.200.000 рупий ежегодной субсидии, рушился было сам собою, а занятие Северного Афганистана и непосредственное соседство с Индией причиняло бы немало забот и горя ост-индскому правительству.
Дело в том, что наместник Северного Афганистана Исхак-хан, двоюродный брат эмира Абдурахмана, отложился и просил защиты и покровительства у Белого Царя. Преданные эмиру войска бежали, очистив весь Северный Афганистан. События эти застали англичан врасилох и следовали так быстро, что уже в ноябре 1888 года в памирских ханствах и Бадахшане водворились законные владетели, а в Мазар-и-Шерифе - воссел Исхак-хан. Все это случилось в течение одного месяца и совпало с пребыванием моим в Канджуте. Происшествия эти чрезвычайно подняли престиж России и усилили естественную к нам симпатию среднеазиатских народов. Для пояснения насколько симпатия эта сильна, я позволю себе привести несколько случаев, подтвержденных официальными письмами и документами:
Уезжая из Канджута, я оставлял хана серьезно больным. Тем не менее, он принял меня во дворце и в торжественной прощальной аудиенции, в присутствии сановников страны и послов из Гильгита, поручил мне довести до сведения ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, что он просит принять его и страну в подданство России. Сафдер-Али-хан, показывая мне письмо к нему Вице-Короля Индии, между прочим, сказал: "Вот письмо, в котором он обещает сделать страну мою арсеналом и казнохранилищем Индии (т.е.переполнить оружием и деньгами). Я ненавижу англичан и прогнал посланцев. Я знаю, англичане будут мстить мне за это, но я не боюсь их, ибо прислонился к скале, на которой незыблемо стоит Великий Белый Царь". Дальше он просил снабдить его хотя бы двумя горными орудиями и сотнею берданок, обещая никогда не допустить в страну свою англичан. Речь свою правитель Канджута закончил словами: "я молюсь о здравии Белого Царя, моего Великого Покровителя" и, повернувшись к западу, сотворил молитву вместе со всеми присутствовавшими.
Заявление это поставило меня в крайне затруднительное положение. Я посетил Канджут с научною целью, не имея никакой политической миссии, и не знал, что ответить хану, избалованному предложениями и ухаживаниями англичан. Поэтому, подтвердив еще раз о совершенно частном характере моего посещения, посоветовал хану обратиться к ИМПЕРАТОРСКОМУ российскому консулу в Кашгарии. Сафдер-Али-хан снарядил в Кашгарию посолъство, снабдив посла собственворучными письмами к консулу, туркестанскому генерал-губернатору и министру иностранных дел. Послу поручено было дойти, по крайней мере, до Ташкента и вручить лично письма генерал-губернатору, но консул наш в Кашгаре задержал его, письма отобрал, а самого в Ташкент не пустил. О дальнейшей участи ходатайства Сафдер-Али-хана достоверных сведений не имею. Кажется, письма отправлены были в азиатский департамент министерства иностранных дел, правитель же Канджута не был даже почтен ответом. Повидимому, такая же участь постигла и письмо Сафдер-Али-хана ко мне от 30 августа 1888 года, в котором он, узнав о Тезоименитстве ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, просит довести до сведения ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о его беспредельной преданности, причем, между прочим, пишет: "Узнав о высокоторжественном дне, который празднуют все подданные Великого Белого Царя, я с моим народом надел новые платья и отпраздновал этот день настолько торжественно, насколько позволили то средства моей бедной страны. У меня одна только пушечка и я приказал стрелять из нее во славу Великого Государя".
В 1889 году в рошанском селении Сарез я приятно удивлен был симпатиею населения к русским. Жители называли себя не иначе как подданными Белого Царя и новое занятие Рошана афганскими войсками объясняли тем, что русские войска далеко и не могли подоспеть во время, чтобы прогнать афганцев. В день прибытия экспедиции в Сарез, явились ко мне старики и привели связанным вновь назначенного афганцами сельского старшину, прося примерно наказать его за то, что он заставляет их подчиняться "дуздам", т.- е. ворам (другой клички здесь для афганцев не существует). Я поспешил освободить старшину и одарил его халатом, а старикам объяснил значение русской поговорки: "До Бога высоко, до Царя далеко"...
Бывали случаи, когда правители памирских ханств подвергались самым жестоким наказаниям за симпатии, оказанные русским. Так например: правитель Шугнана, Юсуф-Али-хан, казнен был эмиром Абдурахман-ханом за гостеприимство, оказанное им русскому путешественнику доктору Регелю. Правитель Вахана, Али-Мордан-Шах, принял у себя экспедицию капитана Путяты и, опасаясь участи постигшей Юсуф-Али-хана, бежал в Чатрар (Читрал - соврем.), где скитается по настоящее время. Тем не менее, симпатии его к нам не уменьшились и в 1888 году, выбравшись из Канджута на Памиры, я получил письмо от правителя Вахана, Али-Мордан-Шаха, в котором он сообщал о бегстве афганцев и водворении своем на прародительском престоле, выражал искреннее желание служить России и приглашал меня в страну свою, обещая препроводить в Шугнан и ручаясь за полную мою безопасность. Пясьмо это получено было мною в первых числах октября, т.е.немедленно после выхода из Канджута, когда все денежные ресурсы экспедиции заключались в 37 металлических рублях. Кроме того, у меня не осталось ничего из подарочных вещей, а также погибли почти все лошади, как лично мои, так и казачьи. Идти в Вахан и дальше через Шугнан и Бадахшан в Бухару пешком, без денег и необходимых в Средней Азии подарков - не позволяло мне чувство национального достоинства. Я направился в Кашгар, предполагая занять деньги в консульстве, приобрести лошадей и кое-что из подарочных вещей и, снарядившись заново, через Памиры проникнуть в Вахан. В Кашгаре я встретил самый радушный и сердечный прием в семье консула Н.Ф.Петровского, который, снабдив меня всем необходимым для перехода зимою через Тянь-Шань в Ферганскую область, однако категорически отклонил предполагаемую поездку в Вахан, ссылаясь на отсутствие разрешения со стороны министерства иностранных дел.
В 1889 году, не имея возможности проникнуть в Кафиристан со стороны Бадахшана, я решил попытаться пройти туда через Чатрар и, с этою целью, снарядил нарочного с письмом к Аман-уль-Мульку, в котором просил пропустить меня в Кафиристан, хотя бы в сопровождении одного из слуг, причем в вознаграждение предлагал все, что ему понравится из имущества экспедиции. Отослав письмо, я оставил экспедицию на верховьях реки Ак-су и в сопровождении 3 казаков перешел на истоки реки Вахан-Дарьи с целью исследовать перевал Хударгурт (Сухсурават), ведущий в Чатрар и Ясин. Экскурсия эта была очень рискованна, так как приходилось пройти в виду урочища Лянгар, где стоял афганский пост. Благодаря сильной мятели нам удалось пройти мимо Лянгара незамеченными, но та же метель занесла следы тропинки и нагромоздила такие массы снега, что перевалить через перевал нам не удалось. Тем не менее, положение перевалов Хударгурт и Келендж (Иршоод) в Канджут - определено точно. На обратном пути нам пришлось остановиться на ночлег так близко от афганского поста, что мы ясно слышали ржание лошадей и оклики часовых. Миновав на рассвете пост, мы вышли на большую дорогу в Бозай-и-Гумбез и на четвертые сутки вернулись к экспедиции. Вскоре прибыл посланец мой из Чатрара и привез письмо от Сарвар-уль-Мулька, правителя Мастуджа, который, между прочим, пишет: "Именем отца моего извещаю вас, что страна моя переполнена англичанами, которые следят за каждым шагом моим. Поэтому пропустить вас в страну Сиахнушей никак невозможно. Вы пишете: - "пропустите меня с одним или двумя слугами; какой вред могу я причинить вашей родине, придя одиноким?" Вы не знаете, чего требуете. Как стадо овец бежит в беспорядке при виде одного волка, так ференги боятся одного русского.Как могу я защитить вас от ваших злейших врагов, которые, говорю вам, переполняют страну мою? А в случае несчастья с вами, что отвечать мне Белому Царю?" Письмо это интересно тем, что написано правителем страны, неимевшим никаких сношений с Россией и, наоборот, получающим в течении многих лет субсидию от ост-индского правительства.
Когда мы подошли к границам Рошана, то правитель ея, Сеид-Акбар-Шах, прислал ко мне письмо следующего содержания: "Завоевателю мира, подобному орлу, великому господину. Да будет вам, владетелю вселенной, оказывающему помощь, известно, что до настоящего времени я страну мою считал входящею в состав владений Великого Белого Царя, теперь же явились сюда воры-грабители и овладели половиною моих владений. Раньше этого времени о положении моем я отправил донесение к слугам Великого Государя, но ответа еще не получил. Докладывая вам о положении дел, высказываю надежду, что страна моя будет принята под покровительство Великого Белого Царя, воры же убегут и перестанут разорять мою родину. О последующих событиях буду извещать вас своевременно. Пока Рошан находится в моих руках - считайте эту провинцию своими владениями. Что могу я еще добавить к высказанному?". К письму приложена печать: Сеид - Махомет-Акбар-хана, сына Сеид-Эмир-хана.
Вслед за сим получилось второе письмо от правителя Шугнана, в котором он, между прочим, пишет: "осведомившись о желании вашем пройти в Кафиристан, докладываю, что дороги чрез Шугнан охвачены железным кольцом афганцами и все находятся в их руках. Дорога по ущелыо реки Бартанг на Памиры, вследствии обвала балконов и разлива реки представляет серьезные опасности и едва ли проходима даже для пешеходов. Не подумайте, что я хочу воспретить вам проход по реке Бартанг! Дорога эта в вашем распоряжении, я же докладываю об ожидающих вас трудностях".
Подлинники всех только что прочитанных писем частью сданы в министерство иностранных дел, частью же хранятся в географическом обществе и у меня.
Вот, в общем, характер отношения к нам, русским, правителей самых диких и разбойничьих племен, какие еще сохранились в дебрях Центральной Азии. К этому не лишним считаю добавить, что явился я в Канджут в сопровождении 4-х казаков и не имел возможности прельстить хана ни щедростью, ни подарками, так как все средства экспедиции заключались в 2.000 кр. р., отпущенных мне географическим обществом, да в 300 р. золотом, подаренных экспедиции министром ИМПЕРАТОРСКОГО Двора, графом И.И.Воронцовым-Дашковым.
Для характеристики народных чувств сообщу теперь об отношении канджутцев к англичанам. За два года до меня посетил Канджут полковник Локхарт. Он явился в Канджут со стороны Гильгита, прошел всю страну с юга на север и спустился в Вахан, откуда чрез Чатрар вернулся в Индию. Долго длились переговоры с отцем ныняшнего правителя Канджута, Газан-ханом, о пропуске полковника Локхарта, который за пропуск чрез страну предлагал солидную сумму денег, но требовал заложников, которые гарантировали бы жизнь и безопасность экспедиции. Наконец сделка состоялась. Младший сын хана и сын визиря отправились в Гильгит в качестве заложников и оставались там под стражею все время, пока полковник Локхарт находился в пределах Канджута. Английская экспедиция вступила в страну в сопровождении значителъного конвоя и сотен носильщиков. Я видел список подарков, поднесенных английским офицером правителю страны, его сыновьям и сановникам. Подарки эти, преимущественно деньгами, оружием, парчею и сукном, по самой скромной оценке, превысили сумму в 30 тысяч рупий. Тем не менее, несмотря на заложников, несмотря на то, что полковник Локхарт сыпал деньгами щедрою рукою, стараясь угодить всем и каждому, Газан-хан приказал ловить носильщиков экспедиции и 18 человек из них продал в рабство киргизам Памира, сарыкольцам и прочим. Пока английская экспедиция находилась в пределах Канджута, полковник Локхарт, по-видимому, не рисковал протестовать против захвата в плен его людей, но из Вахана он написал письмо правителю страны, в котором просит выдать захваченных людей, причем пишет: "Ради достоинства Великобритании я заплачу за них сколько пожелаете". Газан-хан, однако, выдать людей не согласился и гордо ответил: "Ради моего достоинства я продам их тем, кому пожелаю". Оскорбление это было далеко не единственным. Населению разрешено было воровать у экспедиции все, что удавалось, брать за съестные продукты неимоверные цены (мука продавалась на вес серебра) и т. д. Сафдер-Али-хан, рассказывая мне о пребывании английской экспедиции, прибавил: "лорд Локхарт выбрался от нас вот так", при этом хан показал мне средний палец, предварительно пососав его, что должно было означать, что полковник Локхарт ушел только с жизнью, лишившись всего имущества. Казалось бы, что раз экспедиция выбралась из пределов Канджута, все перенесенные оскорбления могли быть вымещены на заложниках. Однако политика заставила подавить чувство естественной и вполне справедливой злобы и заложники, щедро одаренные, возвратились спокойно на родину, а несчастные носильщики предоставлены были собственной судьбе.
Газан-хан не долго пользовался богатыми подарками английской экспедиции. Население не простило ему пропуска чрез страну людей, которых оно считает естественными и злейшими своими врагами. В стране образовалась сильная партия недовольных, во главе которой встал старший сын Газан-хана и нынешний визир Даду. Заговор созрел и Газан-хан убит был выстрелами из дома Сафдер-Али-хана в тот момент, когда он проезжал из загородного сада во дворец. Сафдер-Али-хан, вступив на престол, официально сообщил китайским властям в Кашгаре, что отец его убит им за то, что пропустил через страну англичан.
Вышеизложенные факты настолько характерны, насколько ясно свидетельствуют о чувствах народа к англичанам и к русским, что всякие комментарии к этому считаю излишними.
Резюмируя все вышеизложенное, нельзя не признать, что политические события в этом отдаленном углу Центральной Азии складывались для нас в конце 1888 года весьма благоприятно. К сожалению, мы не пожелали ими воспользоваться и дали англичанам возможность не только оправиться, но и значительно расширить сферу своего влияния.
Так ост-индское правительство, сознавая непрочность Афганистана, решило не только укрепиться на южных склонах Гиндукуша, но и захватить в свои руки все, что, удастся, к северу от этого горного хребта.
Обратное завоевание Северного Афганистана закончено было к половине июля 1889 года, при чем вновь захвачены были и все памирские ханства. Завоевание это сопровождалось невероятными зверствами. Казни производились ежедневно. Деревни, заподозренные в сочувствии к Сеид-Акбар-Шаху, выжигались, а поля вытравлялись лошадьми. Все девушки и более красивые женщины в стране были отобраны и частью отправлены к эмиру Абдурахману, частью же розданы войскам в жены и наложницы. Из Шугнана набрано 600 человек мальчиков в возрасте от 7 - 14 лет, детей более влиятельных родителей; мальчики эти отправлены были в Кабул на воспитание. Население изнемогало под афганским гнетом, а в перспективе ожидался голод и связанные с ним бедствия. Вообще эмир Абдурахман в жестокости превзошел всякие границы. Так например: родственннки бывшего командующего войсками в Шугнане и Вахане - Джарнейля-Сеид-Али-хана, перешедшего на сторону Исхак-хана, подверглись следующему наказанию: мужчинам выколоты были оба глаза, а женщинам по одному, чтобы оне могли работать и кормить отцов и мужей, и все они сосланы на жительство в разоренный Шугнан. Одного же из подчиненных Сеид-Али-хану командиров полка привязали за шею так, что он не мог ни лечь, ни сесть, а приставленные часовые ударами палки по голове будили несчастного, если он вздремнет стоя. Кормили его сухою и сильно соленою пищею, когда же он, изнемогая от жажды, просил пить - подавали воду, настоенную на табаке, которая производила сильную рвоту. В этом виде его обвозили по городам Бадахшана, выставляя напоказ народу.
Англичанам, для того, чтобы укрепиться на южных склонах Гиндукуша, потребовалось подчинить своей власти Канджут и ввести английский гарнизон в Чатрар. В виду этого летом со стороны Гильгита снаряжена была экспедиция в Канджут. Сафдер-Али-хан отказался было пропустить англичан, но к границам двинут был 12 тысячный корпус кашмирских войск и англичане, угрожая войною, настойчиво требовали пропуска. Пришлось экспедицию принять в Бальтите, но дальше в глубь страны она все-таки не была пропущена. Тем не менее, английскому агенту удалось заключить договор, на основании которого владетель Канджута за ежегодную субсидию в 15.000 рупий встал к ост-нидскому правительству в такие же отношения, в каких находятся к нему и другия вассальные ханства севера Индии. Сафдер-Али-хан, сообщив мне писъмом о договоре, горько жаловался на старшин своих, которые, будучи подкуплены англичанами, отказались драться и променяли родину на золото. Насколько вновь заключенный с Англией договор непрочен, можно судить из того, что после подписания договора, канджутский хан два раза письмами приглашал меня посетить его, а капитан Younghusband с нескрываемой злостью рассказывал мне летом 1890 года в Яркенде, что канджутский хан, подписав договор и получив субсидию, на приглашение Younghusband'а посетить Индию ответил: "Я и мой Великий Покровитель ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III - мы в Индию не ездим".
Правитель Чатрара отказался допустить английский гарнизон в пределы ханства. Тогда эмир Абдурахман-хан объявляет войну Чатрару и двигает к границам его войска, освободившиеся после занятия Шугнана. Правитель Чатрара, не имея возможности бороться с сильным афганским эмиром, просит защиты у англичан. Ост-индское правительство предлагает эмиру Абдурахман-хану прекратить готовившиеся было военные действия только после того, когда в Мастудже, на истоках чатрарской реки, выстроено было англичанами укрепление. В вознаграждение за расходы эмиру предоставлено было завоевать Кафиристан. Удалось ли это предприятие афганцам - сведений не имею, но генерал-губернатор Северного Авганистана, в письме ко мне от половины сентября 1880 года, называет Кафиристан провинцией Афганистана. Таким образом, осенью 1889 года, то есть ровно год спустя после изложенных выше событий, англичанам не только удалось подчинить своему влиянию отложившиеся было области, но и завладеть Чатраром, Канджутом, а может быть и Кафиристаном. Одновременно с этим англичанам, как известно, удалось прочно укрепиться в Кашмире, магараджа которого, под предлогом неумения вести финансы страны, удален от управления, а делами в настоящее время управляет совет из 8 членов под председательством английского резидента в Кашмире полковника Nisbet'а. В совете этом только 4 члена кашмирцы, а остальные англичане, при чем двое из кашмирцев - близкие родственники устраненного кашмирского магараджи и претенденты на престол, а, следовательно, люди, заискивающие перед англичанами.
Покончив с Кашмиром, англичане перешли на северные склоны Гималая и заняли укрепление Шахидулла-Ходжу, пункт очень важный потому, что к укреплению этому сходятся все торговые дороги из Кашмира в Китай и, кроме того, правительство, владеющее этим укреплением, овладевает вместе с тем громадным, годным к культуре и некогда густо населенным бассейном реки Раскем-Дарьи.
История занятия Шахидулла-Ходжи настолько поучительна и так рельефно обрисовывает политику англичан в Азии, что я изложу ее подробно.
Осенью 1888 года, во время пребывания моего в Канджуте, Сафдер-Али-хан снарядил сильную разбойнячью шайку и под начальством одного из канджутских старшин, некоего Махомед-Сахи, отправил на верховья реки Раскем-Дарьи с целью ограбления торговых караванов, следующих из Китая в Кашмир. Канджутцы подошли скрытно к Шахидулла-Ходже и, дознавшись, что выше нынешнего укрепления находится богатый торговый караван, ночью напали на торговцев, но, встретив сильный отпор, как со стороны торговцев и погонщиков каравана, так и со стороны местных киргизов, отступили с уроном. Виновниками неудачи канджутцы сочли местных киргизов, заподозрив их не без основания в том, что киргизы предупредили торговцев о готовящемся нападении и помешали капджутцам напасть на караван врасплох. В виду этого они напали на стоявший в стороне киргизский аул и захватили в плен 21 человека со всем имуществом, а также больше тысячи голов разного скота. Киргизы не посмели преследовать разбойников, которые с богатою добычею благополучно вернулись домой. Родственники заполоненных направились было к китайским властям в Яркенде и Кашгаре с просьбою заставить канджутцев возвратить хотя бы захваченных в плен людей, но получили полный отказ в содействии. Тогда они снарядили посольство к Сафдер-Али-хану, который, оставив скот и имущество киргиз себе, согласился выдать людей за выкуп в 21 ямбу серебра (около 2500 рублей). Выкуп киргизы внесли, заполоненные люди были возвращены, и дело это кануло бы в вечность, как и масса других разбойничьих проделок канджутцев, если бы в него не вмешался английский коммисар в Ладаке.
В Шахидулла-Ходже проживает негласный английский агент низшего разряда афганец Джаль-Магомед-хан. Агент этот получил письмо от английского коммисара в Ладаке, в котором последний рекомендует киргизам Сары-Кии еще раз обратиться к китайским властям с просьбою взыскать с канджутцев ограбленное имущество, а в случае отказа китайцев удовлетворить эту просьбу, обратиться с жалобою к нему, английскому комисару, причем обещал полное свое содействие и помощь. Письмо это предъявлено было киргизам, которые немедленно направились с жалобою в Яркенд. Китайские власти отказали безусловно в содействии своем к возвращению ограбленного имущества. Тогда пострадавшие направились в Ладак и принесли английскому коммисару письменное прошение, за подписом и печатями всех киргизов, в котором просили защитить их от канджутцев. Прошение это развязывало англичанам руки, как по отношеыию к китайцам, так и в особенности - канджутцам. Киргизы получили щедрое пособие, а ост-индское правительство обратилось с официальным требованием в Пекин - обуздать подвластный в то время Китаю Канджут и принять меры к прекращению беспорядков на большой караванной дороге из Кашгарии в Кашмир, так как грабежи канджутцев вредят сильно торговым интересам Англии. Из Пекина последовал запрос местным властям в Кашгарии, которые поспешили ответить, что канджутцы разбойничье племя, подчиненное Китаю номинально, а нападение на торговый караван и киргизов совершено далеко вне последнего китайского караула, а следовательно и вне пределов Кашгарии. Ответ этот сообщен был из Пекина ост-индскому правительству, которое снарядило экспедицию под начальством капитана Younghusband'а для занятия местностей, от которых отказывались китайцы. Начальнику экспедиции поручено было восстановить укрепление в Шахидулла-ходже, занять его кашмирским гарнизоном и принять в подданство местных киргизов.
Обо всем вышеизложенном я доносил год тому назад, причем высказывал предположение, что англичане, не встретив противодействия, не остановятся на этих успехах и попытаются влияние свое распространить на Памиры, то есть к самым границам России. К сожалению, предположениям этим суждено было оправдаться скорее, чем я думал.
Летом 1890 года, исследуя среднее течение реки Яркенд-Дарьи, я узнал, что в Яркенд прибыла большая английская экспедиция под начальством капитана Younghusband'а. Офицер этот известен своей смелой поездкой из Пекина, через весь Китай в Яркенд и дальше чрез Мустагский хребет в Кашмир (в 1886 г.), заключением договора с правителем Канджута (в 1889 г.). Для меня стало очевидным, что столь опытный агент командирован был английским правительством для выполнения важных предначертаний. Поэтому, закончив работы, я поспешил в Яркенд, где застал англичан в разгаре переговоров с местными китайскими властями. Что переговоры с китайскими властями должны были вестись совершенно секретно, подтверждается тем обстоятельством, что капитан Younghusband, не доверяя скромности переводчиков из туземцев, привез с собою переводчика англичанина, а секретарем - китайца, родившегося в Индии. Тем неменее, при некотором уменьи ладить с китайцами, мне не трудно было узнать, что цель переговоров состояла в разделении Памиров между Авганистаном и Китаем. Яркендский амбань лично мне рассказывал, что приезд Younghusband'а совпал с активным движением авганцев, которые летом 1890 года напали невзначай на памирских киргизов, считающих себя китайскими подданными и угнали 60 кибиток этих киргизов в Шугнан. Памиры занимают громадную площадь, приблизительно между 37 - 39 градусов северной широты и 42 - 45 градусов долготы к востоку от Гринвича. На Памирах берет начало Аму-Дарья. К северу от Памиров лежит Ферганская область, причем крайний пункт, занятый ныне нашею администрациею, озеро Большой Кара-куль отстоит всего в 60 верстах от долины реки Ак-су (Мургаба). С юга Памиры отделяются от английских владений в Индии Гиндукушем, на южных склонах которого расположены ханства, входящие в состав Индии. Таким образом, до настоящего времени, Памиры составляли нейтральный пояс, отделяющий русские владения в Азии от английских. Россия не переступала к югу от Закаракульского хребта, англичане к северу от Гиндукуша. Между тем, если обратиться к истории, то права России на Памиры возникают сами собою, ибо Памиры всегда входили в состав бывшего Коканского ханства и управлялись ставленниками коканских ханов. Местное киргизское кочевое население хорошо помнит это обстоятельство и никогда не отрицает, что оно принадлежало Коканскому ханству; наконец везде на Памирах до настоящего времени существуют развалины укреплений, в которых жили ставленники коканских ханов. Самым южным укреплением следует считать развалины Бозай и Гумбеза (на истоках реки Вахан-Дарьи, на Малом-Памире). Здесь жил последний правитель Памиров, Бозай-Датха, назначенный коканским ханом Худояром, и 27 лет тому назад убитый в стычке с разбойничьей шайкой канджутцев. Тело Бозай-Датхи погребено у самого укрепления, а над могилой воздвигнута гробница, от которой и самая местность получила свое название. Заняв коканское ханство, Россия естественно имела полное право занять и Памиры. Покойный туркестанский генерал-губернатор К.П. фон-Кауфман не занял Памиров, руководствуясь, насколько мне известно, между прочим следующими соображениями: а) Движение русских вглубь Центральной Азии всегда вынуждалось необходимостью и нередко не только не одобрялось центральным правительством, но, подчас, и шло вразрез с указаниями, даваемыми из С.-Петербурга. Занятие Памиров и появление русских на Гиндукуше, естественно, должно было встревожить английское правительство, чего, по обстоятельствам того времени (турецкая война 1877 г.), желательно было избегнуть. б) Памиры в то время были почти пустынны, так как редкое кочевое население подвергалось непрерывным нападениям разбойничьих шаек, независимых тогда ханов Канджута, Чатрара, Вахана и Шугнана. Заняв Памиры, Россия вынуждена была бы охранять своих новых подданных и, следовательно, пришла бы в столкновение с вышеупомянутыми ханами, что было тоже крайне нежелательно. в) Памиры с запада и юга окружены были только что перечисленными мелкими ханствами, а с востока Кашгариею, которою управлял в то время Якуб-бек. Все эти ханства не могли представить никакого сопротивления могущественной России и, следовательно, Памиры могли быть заняты при первой необходимости. В настоящее время обстоятельства резко изменились и, как мы видели выше, Шугнан и Вахан заняты афганцами, Чатрар, Ясин и Канджут, - англичанами, а Кашгария - китайцами. Следовательно, в настоящее время, Памиры окружают сильные державы, из коих Китай фактически занял большую часть Памиров. Самовольный захват этот, относясь совершенно беспристрастно, нельзя не признать несправедливым, не только вследствие вышеизложенных прав России на Памиры, но и вследствие следующих соображений:
а) Прежние китайцы, то есть китайцы, владевшие Кашгарией до захвата этой страны Якуб-беком в начале 60 гг., не распространяли своих владений дальше окраин восточных склонов Тянь-Шаня, Кашгарского хребта и т.д. Якуб-бек, завладев Кашгарией, и укрепившись в ней, воспользовался слабостью и внутренними междоусобиями, раздиравшими Коканское ханство, и выдвинул передовые посты свои в глубь гор Тянь-Шаня и Кашгарского хребта, но на Памиры влияния своего не распостранял. Когда в 1877 году умер Якуб-бек, а сын его Бек-Кули-бек не в состоянии был дать отпор китайцам, то последние вновь завладели Кашгариею и остановились на пунктах, занятых прежде Якуб-беком. В 1883 году памирская экспедиция капитана Путяты встретила китайские посты уже по реке Муджи (исток Геза), но дальше к западу Памиры не были заняты китайцами. В 1888 году, во время путешествия в Канджут, я совершенно неожиданно наткнулся на китайские посты по реке Ак-су. В 1889 году, следуя из Ферганской области чрез Кудару (Кок-джаръ) и Памиры за Гиндукуш, я был свидетелем, как начальник пограничной линии Джан-Дорин назначил беков по реке Аличур, то есть с 1883 по 1889 год китайцами занят почти весь Памир.
б) Памирами владеют китайцы совершенно номинально. Они не только не берут в свою пользу никакой подати с местного населения, но и не в состоянии защитить его от вымогательств каднжутского хана, который взимает подати, чинит там суд и расправу. Вся власть китайцев заключается в том, что, назначив беками родовичей из местных киргизов, награждал их чинами и небольшим жалованьем, они заставляют приезжать раз в год на поклон к кашгарскому губернатору и доносить себе о политических событиях в соседних ханствах.
В военных сферах составилось убеждение, что дороги чрез Памиры и Гиндукуш, как пролегающие по местности не ниже 12,000 футов, с перевалами в 15-16,000 футов, для движения войск недоступны. Взгляд этот едва ли можно назвать правильным по следующим соображениям:
1) Я изъездил Памиры по всем направлениям и никогда ни лично сам, ни мои спутники не страдали от разреженного воздуха. Доблестные туркестанские войска в 1876, 81 и 82 годах в составе целых отрядов, с громадным обозом, полевой и горной артиллерией переваливали трудный Алайский хребет в долину Большого-Алая и дальше на озеро Большой Кара-куль (13,600 фут.), жили там по несколько месяцев и санитарное состояние войск было блестяще. Такой же пример можно указать и в китайских войсках, которые, в составе нескольких тысяч, преследуя одного из претендентов на кашгарский престол Джахангир-ходжу, прошли Памиры до озера Яшиль-куля, укрепились по обеим сторонам его и, перезимовав, благополучно вернулись в Кашгарию. Развалины этих укреплений существуют до настоящего времени и известны у местного населения под именем: "Кафир-Кала", т. е. укрепление неверных.
2) Дороги по Памирам настолько удобны, что при самой незначительной разработке перевалов и некоторых подъемов и спусков, допускают возможность движения даже орудий в запряжку. Перевалы в 15 и более тысяч футов не могут задержать наступления войск, так как подступы к ним тянутся полого на целые десятки верст и при том перевалы эти возвышаются над окружающею местностью всего на 2 - 3 тысячи футов. Перевалы же в Гиндукуше: Калик, ведущий в Канджут, и Барогиль, ведущий в Чатрар, настолько удобны, что допускают возможность движения войск без всяких исправлений. Правда, спуск с перевалов и движение вглубь Индии по узким щелям северных истоков Инда представляют громаднейшее затруднение и без серьезных исправлений для движения недоступны, но расстояние от перевалов до проведенных англичанами по Кашмиру шоссе не превышает 200 верст и при сочувствии к нам местного населения, снабженного для разработки дорог усовершенствованными орудиями, могут быть быстро исправлены.
3) Памиры далеко не безлюдная пустыня и там во многих местах встречаются кочевники - киргизы, подножный корм и топливо (терскен).
Излагая все вышеприведенное, я вовсе не хотел бы вселить убеждение, что дорога чрез Памиры есть самый удобный путь в Индию. Наоборот, я глубоко убежден, что в случае столкновения с Индией, главные силы русских войск будут двинуты со стороны Закаспийской области через Герат и частью из Туркестана через Бамиан на Кабул. Но, думаю, что посылка чрез Памиры в Кашмир 3-4-тысячного корпуса не только вынудит англичан отказаться от мысли воспользоваться кашмирскими войсками для борьбы с Россией, но, в силу недовольства кашмирцев англичанами усиленного низложением в настоящее время кашмирского магараджи, заставит англичан выделять часть войск из внутренней Индии для наблюдения за Кашмиром. Таким образом, появление даже небольшого отряда русских войск со стороны Памиров отвлечет громадные силы у англичан и в значительной степени облегчит задачу главного операционного корпуса.
Весьма важное значение в стратегическом отношении имеет находящаяся в пределах России долина Большого-Алая. Долина эта, так удачно названная покойным Северцевым, "северным уступом Памира", представляет глубокую впадину длиною около 200 верст при средней ширине около 20 верст. Долина эта тянется с запада на восток и на всем своем протяжении покрыта великолепными пастбищами, которые тянутся и по скатам окружающих долину гор почти до линии вечных снегов. Пастбища эти привлекают ежегодно из внутренних частей Ферганы десятки тысяч самых богатых кочевников, которые, не имея возможности прокормить в Фергане громадные табуны скота, страдающие от недостатка пастбищ, жары и овода, являются на летние стойбища в долину Большого-Алая, прогоняя с собой десятки тысяч верблюдов, сотни тысяч лошадей и бесчисленное количество баранов и другого домашнего скота. Так как долина Алая в восточной части своей, т. е. в местности с самыми лучшими пастбищами, повышается почти до 12.000 футов над уровнем моря, а в западной, самой низкой, -- понижается только до 8.000 футов, то скот, пригоняемый сюда, вполне привыкает к разреженной атмосфере и с тяжелыми вьюками свободно проходит перевалы в 16-17.000 футов. С другой стороны, население Ферганской области не может обойтись без пастбищ долины Алая, и какие бы тяжелые политические обстоятельства население не переживало, оно должно явиться туда на летния стойбища. Таким образом, долина Большого-Алая является естественною базой, где может и должен базироваться всякий отряд, направляющийся из русских пределов через Памиры в Индию и где, в свою очередь, всякий отряд, движущийся из Индии в пределы России, найдет всегда летом, а подчас и зимою, не только вьючных животных, но и порционный скот.
Как долина Большого Алая справедливо может считаться этапным пунктом для движения русских на Памиры и далее за Гиндукуш, так, в свою очередь, долина озера Шива поможет англичанам снарядиться для дальнейшего похода в русский Туркестан.
Озеро Шива находится на плоскогорье высотою около 11.000 футов, в громадной излучине Пянджа, находящейся между городами: Ишкашимом, Кала-и-Хумбом и Рустаком. Озеро это посетил один только европеец - русский путешественыик доктор Регель. Но его посещали неоднократно пундиты и разница в показаниях д-ра Регеля и пундитов о величине озера поразительная. Со слов д-ра Регеля, озеро Шива нанесено на наших картах как громадный водяной бассейн в 450 квадратных верст, пунлиты же обозначают его небольшим озером, всего длиною в 1.200 шагов. Разница совсем непонятная. Бывший начальник топографического депо в Индии, генерал Уокер, желая примирить столь разноречивые показания, предполагает, что шивинское плоскогорье настолько обширно и мало исследовано, что д-р Регель и пундиты могли, не подозревая того, видеть два различных водяных бассейна. Предположение это едва ли справедливо, так как самый тщательный опрос туземцев, постоянно кочующих близ озера Шива и пересекавших шивинское плоскогорье во всевозможных направлениях, категорически опровергают возможность существования двух водяных бассейнов. По словам этих туземцев, озеро Шива имеет в длину около 3-4 верст, при ширине в одну версту. Долина озера Шива, равно как близлежащие ущелья и скаты гор покрыты великолепными пастбищами, привлекающими кочевое население не только из Северного-Авганистана, но и Бухарского ханства.
Летом близ озера Шива и в окрестных ущельях собирается всего до 12.000 кибиток кочевников, пригоняющих на пастбища шивинского плоскогорья до 1.200.000 баранов, 120.000 лошадей, 25.000 верблюдов и 200.000 рогатого скота. Цифры эти, конечно, гадательны, но, помещая их, я сократил по крайней мере в 4 раза заявления многочисленных очевидцев, проверенные перекрестными распросами.
Столь значительное количество скота, сконцентрированного в течение летних месяцев на сравнительно небольшой площади, само по себе наглядно свидетельствует о важном военном значении шивинского плоскогорья не только как пункта, своевременный захват которого может обеспечить продовольствие и перевозочные средства действующей армии на все время кампании, но и как пункта, захватить который необходимо, чтобы лишить противника указанных выше ресурсов.
В силу вышеизложенных соображений Памиры с прилегающими к ним местностями имеют несомненную важность для России. Я считаю не менее необходимым поддерживать дружественные отношения с мелкими ханствами, расположенными на южных склонах Гиндукуша.
Соглашаясь вполне, что державе, столь могущественной как Россия, неуместно вступать в письменные сношения с такими мелкими и непривыкшими сдерживать свои обязательства ханами, как, например, владетель Канджута. Я, близко изучив характер азиатов, полагал бы полезным, ради поддержания престижа и обаяния России, удовлетворять их мелкие просьбы. Так, два года тому назад канджутский хан убедительно просил подарить ему хотя бы 100 берданок и 2 горных орудия. Казалось бы, что просьбу эту можно было бы удовлетворить частно, не связывая себя никакими обязательствами, например в виде подарка за гостеприимство и радушие, оказанные мне, русскому офицеру, и моему небольшому конвою во время бытности нашей за Гиндукушем. Подарок такой не только расположил бы окончательно правителя Канджута в нашу пользу, но и поднял бы престиж и обаяние России, как в этой стране, так и в соседних ханствах. Исполнить это было бы тем удобнее, что англичане тщательно скрывают факт заключения ими договора и официально вассальные отношения Канджута к Индии нашему правительству - неизвестны.
Вот в общих чертах события, на которые считаю нужным обратить внимание. Повторяю, что англичане двигаются вперед по всей линии и двигаются систематически, по строго обдуманному плану. Если им удастся добиться разделения Памиров, то в руках афганцев, или вернее англичан, окажутся не только все дороги чрез Памиры, но и сами они очутятся всего в одном переходе от озера Большого-Кара-куля, и в 2-х от долины Большого-Алая, важное значение которой мною уже указано. Такое близкое соседство с Ферганской областью, так недавно еще присоединенной и содержащей столь много горючего материала, вряд ли удобно. Не следует забывать, что не дальше как в 1885 году Фергану охватило весьма сильное движение, не перешедшее в поголовное восстание, только благодаря решительным и крутым мерам администрации, притом движение, при содействии афганцев, явно вызванное наущениямя извне.
Достоверно известно, что все афганские торговцы, проживающие в Фергане, обязаны доставлять срочные сведения о передвижении войск и действиях русских властей.
Наконец, если дороги чрез Памиры теперь удобны для движения нашего в Индию, то, нет сомнения, они будут еще удобнее, очутившись в руках англичан, для движения в наши владения и помогут осложнить наше положение в самую критическую минуту, когда нам может понадобиться напряжение всех сил наших в Азии. Поэтому, ради собственного спокойствия и поддержания престижа России, доставшегося нам дорогою ценою, казалось бы необходимым остановить англичан и дать им соответствующий отпор, для чего лучшим средством было бы приступить к немедленному дальнейшему разграничению с Китаем, а если обстоятельства будут благоприятны, то и с Афганистаном.
Дело в том, что разграничение между Китаем и Ферганокой областью доведено в 1883-84 годах толъко до перевала Уз-Бель, то есть как раз до Памиров. Так как разделение Памиров между Афганистаном и Китаем существенно затрогивает интересы России и так как переговоры по этому вопросу уже ведутся в настоящее время, то казалось бы, что России не трудно будет помешать утверждению их, пока переговоры эти не ратификованы, а китайцы не связаны статьями, расторжение коих может оказаться невозможным. Выше было указано, что китайцы, захватив Памиры, владеют ими номинально, выгод никаких не извлекают, а потому вряд ли теперь можно ожидать серьезного дипломатического протеста при предъявлении прав своих на Памиры. Но обстоятельства резко изменятся, если китайцы, ради собственного спокойствия и желания избежать афганских набегов, заключат договор с англичанами. Китайцы народ самолюбивый и, поддерживаемые англичанами, никогда не сознаются, что они не имели права на Памиры. Ссориться нам с многомиллионным населением Китая немыслимо. Но, разграничившись с Китаем, вытеснить с Памиров англичан не представит никаких затруднений.
Подполковник Б. Л. Громбчевский.
С.-Петербург, 14 Марта 1891 г.
Противостояние русских с британцами в XIX веке было важным событием в истории Читрал. В то время симпатии местного населения разделились - одни были за русских, другие за англичан. Британцы пугали местных жителей русскими солдатами и активно строили форты, а после образования Туркестанского края в 1880-х годах заблокировали дороги. Граница Российской империи проходила совсем рядом - до горного Бадахшана, области в Таджикистане, от Читрала всего несколько десятков километров.
История Бадахшана, исторической области, расположенной на северо-востоке современного Афганистана и в прилегающих к нему районах правобережья Пянджа (входящих в настоящее время в состав Горно-Бадахшанской автономной области республики Таджикистан), до сих пор остается малоисследованной.
Этот горный, труднодоступный в прошлом ареал, лежащий на стыке Средней Азии, северо-западных районов Индийского субконтинента, Восточного Туркестана и областей, входящих в состав Афганистана, с древних времен был связующим звеном между глубинными районами Азии. В основном избегнувший в силу ряда причин участи других районов Центральной Азии, испытавших многочисленные вторжения завоевателей и связанные с ними разрушения, Бадахшан в течение длительного времени был независимым, а если и входил в состав других, более мощных государств и государственных объединений, то ненадолго и зачастую лишь номинально.
Богатство недр, важное положение на перекрестке торговых и миграционных путей Центральной Азии - все это с древнейших времен подогревало интерес к Бадахшану. Страна видела множество завоевателей, путешественников, торговцев, паломников и просто искателей приключений.
Сведения о Бадахшане постоянно встречаются в историографических источниках - античных и древневосточных, многочисленных сочинениях арабских, персоязычных и китайских авторов, охватывая период с VI-V веках. до н. э. до нового времени. Начиная с Марко Поло, проезжавшего через Бадахшан, большое внимание этой стране стали уделять европейские путешественники и ученые.
Оказавшись во второй половине XIX века на передовой линии русско-британского колониального соперничества в Азии, Бадахшан попал в центр внимания русских и английских политических деятелей, публицистов и исследователей. Ряд английских и русских путешественников, политических агентов и разведчиков посетили эту страну, оставив свои воспоминания и записки о ней.
Соболев Леонид Николаевич (1844-1913), генерал-лейтенант. Окончил Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию генерального штаба, служил в Средней Азии при штабе Туркестанского генерал-губернатора. В 1877-1878 гг. находился в действующей армии на Балканском полуострове, участвовал в сражениях под Плевной, под Шипкой получил Георгиевский крест. С 1882 года был болгарским министром-президентом и министром внутренних дел. В 1883 вернулся в Россию и состоял начальником штаба московского военного округа. Участник русско-японской войны. Автор книг "Англо-афганская распря (очерк войны 1879-1880 гг.). Страница из истории восточного вопроса". СПб., 1880-1885 (8-томное исследование 2-й англо-афганской войны, более 1500 страниц); "Куропаткинская стратегия. Краткие заметки бывшего командира 6-го Сибирского армейского корпуса". СПб., 1910; "Стратегический обзор Хивинского ханства". Ташкент, 1882 (в соавторстве с генералом Н. И. Гродековым) и многих других.
СОБОЛЕВ А. Н.
ВОЗМОЖЕН ЛИ ПОХОД РУССКИХ В ИНДИЮ?
исправленная статья, помещенная в 1888 году в "Русской Старине"
Текст воспроизведен по изданию: А. Н. Соболев. Возможен ли поход русских в Индию. М. 1901
В марте месяце 1888 года, среди глубокого мира, в английской палате общин был поднят тревожный вопрос о политическом положении Индийской империи. Не задолго перед тем русское правительство своими благоразумными уступками по афганскому разграничению представило новое доказательство тому, что ее политика в Азии покоятся на мирных началах. Казалось, общественное мнение Великобритании могло бы успокоиться и могло бы без опасения взирать на установление русского могущества по соседству с Афганистаном и Персиею. Но боязнь за прочность обладания богатою азиатскою империею и подозрительность, питаемая англичанами к русской политике, таковы, что установление мирного положения в этой части Азии находится вне доброй воли России.
Недоверие англичан к русским, подогреваемое государственными деятелями среднеевропейских держав, склоняло их к неоднократному проявлению вражды к России, что вызывало у последней усиленную деятельность, направленную к стороне Средней Азии. Положение англичан в Азии затруднялось, отношения Англии к России постепенно ухудшались, и чуть было не привели в 1885 году к открытому разрыву. Если бы война произошла, то ни Англия, ни Россия не добились бы никаких существенных выгод, но вышли бы из борьбы истощенными, чего собственно и искали главные руководители европейской политики с покойным Князем Бисмарком во главе.
Посторонние вмешательства во взаимные отношения двух европейских народов, соперничествующих на азиатском материке, по самому существу своему не могут привести к установлению спокойного положения на среднеазиатских границах; напротив того, оне имеют наклонность еще более усложнять отношения Англии к России. В виду этого нам кажется, что наши соперники обретут спокойствие за свою Индию лишь тогда, когда сознают государственную необходимость вступить в непосредственное соглашение с Россиею, т. е. с тою державою, которая имеет и силу, и возможность грозить их власти на полуострове.
Мысль эта, от которой так долго отворачивались гордые британцы, начинает, по-видимому, господствовать над передовыми умами этого удивительного народа. В упомянутом заседании палаты общин лорд Черчиль развил несколько соображений, к которым не могут не прислушаться его соотечественники.
Соглашаясь с высказанным в палате мнением о том, что финансовое положение Индии весьма затруднительно и требует большой бережливости в расходах, благородный лорд заметил, что между этими расходами и европейскою политикою Англии существует самая тесная связь. По его верному замечанию, индийская политика является результатом английской политики в Европе во время Крымской кампании, и он полагает, что Англии следовало бы разсудить о том, стоит ли держаться в Европе такой политики, которая может принудить ее к сосредоточению на индийской границе, за счет Индии, значительных военных сил.
Надо, конечно, радоваться, что англичане начинают сознавать вред, который они сами себе наносят, противодействуя России в достижении ее законных требований. Во всяком случае, это крупный шаг вперед и от него, если только он повлечет за собою соответственную перемену в направлении британской политики, Англия может выиграть более, чем Россия.
Соперничество Англии с Россиею началось по почину первой и выразилось определенно в эпоху Крымской кампании. Охраняя целость своих индийских владений, которым русские и не думали угрожать, англичане всеми силами стремились к тому, чтобы запутать Россию в европейской политике и отвлечь ее внимание от отдаленного Востока. Им казалось, что господство нашего флота на Черном море грозило Константинополю, расположенному по дороге из Европы в Индию. Происки их были направлены к уничтожению этого славного флота. Они достигли своей цели лишь благодаря тому, что Наполеон III, забыв предания своего гениального дяди, вступил с легким серцем в союз с ними. Россия, борясь с могущественною коалициею, потерпела неудачу; но небывалою геройскою защитою Севастополя еще раз показала, что бороться с нею не легкое дело. Россия проиграла, но выиграли ли союзники?
История дает нам на это ответ: они проиграли более, чем Россия. Наполеон III пал, увлекая за собой Францию, и причину этого падения надо искать в Крымской войне. Entente cordiale - оказалось пустым звуком, и Великобритания не пошевельнула пальцем, дабы чем нибудь помочь своему верному крымскому союзнику. С другой стороны, англичане не только не оградили безопасности своих азиатских владений; но вскоре должны были придти к сознанию, что положение их среди многомиллионных индийцев, в виду быстрого и грозного приближения русских к границам Афганпстана и Индии, становится все более и более затруднительным. В действительности они глубоко ошиблись в своих политических расчетах. Они полагали, что Россия, истощенная борьбою, вынуждена будет бездействовать в Средней Азии. Вышло совершенно наоборот. Англичане своею крайнею подозрительностью и враждою сами натолкнули наше правительство на мысль занять прочные стратегическия позиции в долинах Сыра и Аму и проложить новый путь, более прямой, к стороне Индии. В шестидесятых и семидесятых годах, после ряда блестящих побед, мы заняли эти позиции. Мы появились также на восточном берегу Каспийского моря, грозя Мерву и Герату.
Казалось, что руководители британской политики могли бы понять, что для ограждения спокойствия их богатой Индийской империи самое соответственное было бы непосредственное вступление в соглашение с русским правительством. Россия, в видах охранения своего юга, добивалась уступки на Черном море; но наши соперники, в тайне поддержанные некоторыми европейскими кабинетами, упорствовали и еще раз попытались запутать нас в общей политике, надеясь приобрести себе новых союзников.
Будущее раскроет нам истинных руководителей герцеговинского возстания и те пружины, которые были пущены в ход для того, чтобы вовлечь Россию в большую европейскую войну и истощить ее тем. Будущее покажет также, кто внушал турецкой администрации кровавую расправу с болгарами. Все это пока покрыто завесою тайны; но что не подлежит сомнению - это то, что англичане и наши непосредственные соседи, проливая крокодиловые слезы, подогревали тем наше естественное чуство помощи, которую мы всегда с таким неподдельным увлечением оказывали единоплеменным нам славянам. Руководители тогдашней европейской политики были несказанно обрадованы начавшеюся войною, а англичане надеялись среди нового замешательства отыскать себе союзников и повторить историю Крымской войны. Но на этот раз обстоятельства им не благоприятствовали. Наши неудачи в первый период кампании, под Плевною, усыпили внимание государственных деятелей Европы, а когда во второй период войны мы в несколько дней разгромили три турецкие армии, перебросились чрез Балканы и появились у стен Константинополя, было уже поздно.
Россия была истощена войною; но она вышла победительницею. Турция была страшно ослаблена и слабостью этою с редкою находчивостью воспользовались ее тайные союзники: Австрия взяла себе Боснию и Герцеговину, а Англия, захватив Кипр, овладела вслед засим Египтом.
Русское правительство зрело и окончательно обсудило отношения к нам Англии и быстро приняло ряд решительных мер к стороне Средней Азии. Тотчас же после войны войска были направлены в Туркменскую степь. Туркменам нанесен был жестокий удар. Последняя их твердыня, Мерв, о неприкосновенности которого так заботились англичане, сдался добровольно русскому императору в 1884 году. Отголосок русских побед отозвался в Индии и население полуострова передавало из уст в уста о могуществе Белого Царя. Обаянию английской власти был нанесен сильный удар. Англичане всполошились не на шутку.
На этот раз казалось, что они поймут истинные свои выгоды и станут на правильный путь политики. Но они еще раз откинули мысль о прямом соглашении с Россиею, надеясь вновь ослабить своего соперника. Европейских союзников они не имели. Единственный союзник, который был в их распоряжении, был эмир Афганистана. Они попытались подговорить сильный отряд афганцев, ими же устроенный, напасть на малочисленный отряд русских войск под Кушкою. Попытка эта оказалась крайне печальною. Афганцы, разбитые, бежали за свою границу, увлекая за собой англо-индийский отряд, стоявший по соседству с ними; англичане в страхе бросили свой лагерь и имущество и чуть было не погибли в своем безпорядочном бегстве. Спасла их умеренность русских. Отразив дерзкого врага, русские не увлеклись преследованием и, в сознании своего права и своей силы, спокойно остались на занятой позиции.
Англичане почувствовали себя оскорбленными. Им было обидно и стыдно, что их отряд, не видав даже русских войск, бежал от них в паническом страхе. Это было плохим предзнаменованием для будущих событий. Отношения Англии к России обострились. Англо-индийская армия получила повеление мобилизоваться, и все повидимому предвещало войну. Но наша соперница, в виду ее слабости в Индии и неимения достаточной для правильного ведения войны армии, не решилась перейти от угрозы к делу. Ее видимо огорчало то обстоятельство, что никто в Европе не становился открыто на ее сторону, а в тайных пожеланиях успеха она не видела для себя практической пользы. За то она вновь задумала приковать внимание России к европейскому театру и отвлечь тем ее внимание от Средней Азии. Новое английское министерство сочинило в 1885 году румелийский переворот. Англия затронула наше больное место и, зная настроение европейских кабинетов, полагала, что Россия вновь поддастся увлечению и надолго поглотится балканскими делами. Она все еще надеялась отыскать услужливых себе союзников.
Политика Великобритании и на этот раз ошиблась. Союзников у нее не оказалось. Русское же правительство, как ни горько было ему видеть все то, что делалось в Болгарии, спокойно перенесло переворот, направленный против влияния его на полуострове, и решилось выжидать окончания болгарского кризиса; но за то оно, сверх всякого ожидания своего соперника, приняло ряд мер к усилению своего положения на афганской границе. В ряду этих мер на первом месте было поставлено проведение рельсового пути от Каспийского моря в Мерв, Бухару и Самарканд.
Это есть начало конца, а конец, повидимому, заключается в будущем походе русских войск в Индию. Это-то и начинают понимать англичане, и вот лорд Черчиль, еще недавно стоявший в ряду врагов России, обращается к представителям английского народа с вопросом о том, не пора ли Англии рассудить о том, стоит ли держаться в Европе такой политики, которая может принудить ее к сосредоточению на индийской границе значительных военных сил.
Позволительно, повидимому, думать, что практические англичане, хорошо знающие цену обладания богатою Индиею и наученные горьким опытом, поймут, наконец, что если они не оставят своей ошибочной политики и будут продолжать свои упорные, враждебные России, происки на Балканском полуострове и на Черном море, то ничто не будет побуждать нас относиться бережно к их жизненным интересам в Индии. Напротив, надо думать, что они поймут, что все будет указывать нам на полезность и даже необходимость нажать те пружины азиатской политики, которые могут повести к ослаблению английского владычества в Индии. В этом отношении мы очень опасны, так как наши действия в Средней Азии обнаруживают и крайнюю, повидимому безопасную, скромность и вместе с сим страшную стихийную силу, направленную прямо в сердце английского владычества.
Давно ли политики и военные люди Англии и России считали поход русских в Индию химерою, бредом больного воображения? Давно ли между Россиею и британскою Индиею лежали необозримые пустыни и высокие горы, находившияся во власти воинственных мусульман? Воображение англичан, даже мрачно настроенное, не могло представить себе, что все эти страшные препятствия окажутся ничем перед слабым давлением России. Прошло с небольшим четверть столетия, то есть одно мгновение в смысле истории, и все разом переменилось. Мы стоим близ Герата, близ этих прославленных ворот Индии, и главное препятствие, туркменская пустыня, еще недавний театр кровопролитных войн, оглашается ныне свистом локомотива, а сыпучие безводные пески скреплены стальными релъсами. Воинственные афганцы, одержавшие несколько крупных побед в войнах с англичанами, при первом столкновении с рускими штыками бежали в паническом страхе.
Целый ряд последовательных ошибок политических деятелей Великобритании поставил последнюю в опасное положение. Предприятие, еще недавно казавшееся химерою, ныне оказывается возможным. Если спокойно разсчитать все расстояния, отделяющие долину Инда от центров расположения русской армии, и время, необходимое на прохождение русских войск чрез Афганистан, то любой стратег и политик признает, что поход в Индию не только возможен, но и не представит особых затруднений. В этом отношении крайне поучительны походы, совершенные в Индию в исторические времена, и особенно походы Надир-шаха.
История поучает нас, что большая часть предприятий, направленных к покорению Индии, венчалась успехом. История раскрывает нам те причины, которые приводили эти походы к таковым последствиям. Что повторялось периодически, почти из столетия в столетие, в течение двух тысяч лет, то не может не повториться при новом предприятии могущественной военной державы. Из истории также видно, что тот народ, который прочно владел Среднею Азиею, имел хорошо устроенные войска и во главе которого стоял монарх, обладавший волею и решительностью, не мог удержаться от соблазна побывать в Индии. Его манили туда роскошь тамошней природы и баснословные, почти сказочные, богатства тамошнего населения. Предприятия венчались успехом и человечество выигрывало, ибо лишь благодаря этим походам, Индия была открыта и введена в общую человеческую жизнь.
Кир, Дарий, Александр Македонский, Угуз-хан, Аршак, Нуширван, Махмуд Газнийский, Магомед Гури, Чингиз-хан, Тимур-Бек, Бабер, Надир-шах - вот имена тех полководцев, которые с успехом воспользовалис стратегическим положением Средней Азии и не остановились перед мыслью переброситься чрез Афганистан и горные хребты, ограждающие Индию с северо-запада и запада. История походов этих завоевателей, а также походы скифов и монголов, показывают нам, что Гинду-Куш и Сулейманов хребет имеют значителыюе число проходов, по которым возможно следование больших масс пехоты и кавалерии и даже артиллерии.
Эти же походы удостоверяют, что армии вторжения не встречали по дорогам особых затруднений в отыскании продовольствия и фуража. Точно также не было затруднений в топливе. Вода в горных долинах Афганистана прохладна и обильна. Препятствия встречались лишь со стороны местного воинственного населения. Но соблазн побывать в богатой Индии всегда был у него так велик, так господствовал над ним, что оно весьма быстро из врага делалось союзником и, вступая в ряды иноземного войска, с увлечением шло в долины Инда. Эта черта проходит непрерываою нитью чрез всю историю последних вторжений на полуостров; вот почему при этих вторжениях обнаружилось любопытное явление, для нас европейцев мало понятное: армии вторжения, по мере движения вперед, не только не ослаблялись, но усиливались. В самой же Индии эти армии находили могущественных союзников из числа туземных государей полуострова.
Так было в прежних, нам известных, походах, так вероятно, будет и в следующем походе.
Походы эти были исполнены при таких условиях, которым нет места в настоящее время, ибо ныне не могут даже существовать те затруднения, которые существовали прежде. Пути исследованы; театр военных действий изучен; настроение индийского населения известно; истинное положение английского владычества выеснено; наступающая армия будет иметь в своем распоряжении железную дорогу, пароходы, телеграф и все то, что нам доставило в последнее время высокое развитие техники.
Ныне, когда Россия расположилась на границах Афганиста и имеет непрерывное паровое сообщение этих границ с центрами государства, никто не решится утверждать, что поход русских войск в Индию принадлежит к числу неисполнимых предприятий.
Мы не добиваемся новых завоований в Средней Азии и нам, без сомнения, было бы осторожнее не увлекаться излишними военными предприятиями; но что же делать, когда сами англичане толкают нас вперед? И мы, изучив политику англичан в Азии и отношения этой политики к действиям их в Европе, должны сознать, что чем сильнее будет Россия в Средней Азии, тем слабее будет владычество англичан в Индии и тем сговорчивее они будут в Европе.
В виду сего нам надлежит занять на границах Афганистана прочное стратегическое положение. Пусть соперник наш знает и чуствует, что мы сумеем воспользоваться своею близостью к Индии в том случае, если он вздумает вновь проявить нам вражду, подобную той, которую проявил во время Крымской войны и в эпоху берлинского конгресса. В этом заключается прямая выгода России и от нее, конечно, мы не будем уклонятьея ради успокоения англичан в Индии, для нас вовсе ненужного. Мы тоже желали и желаем успокоить наш юг - и Англия не только не отнеслась к этому вполне законкому требованию России с подобающим вниманием, но раззорила Севастополь и погубила наш черноморский флот.Будем же мы следовать этому примеру.
Мы вынуждены, впрочем, сделать вссьма важную оговорку. Русское правительство всегда искренно добивалось установить мирное положение дел в Средней Азии и делало в видах достижения этой высокой цели много весьма существенных уступок, и если до сего времени еще не установилось такого положения дел, которое могло бы удовлетворить англичан, то виною тому эти последние, слишком часто и с большим усердием проявляющие болезненную вражду в России. Усиление или ослабление этой вражды во многом зависит от взаимной борьбы политических партий английского народа. Вожаки партий, выбрав вопрос о прочности существования индийской империи предметом парламентской борьбы, как будто не желают понять, что вопрос этот на столько опасен сам по себе, что играть им по меньшей мере неосторожно; вожаки эти точно не хотят знать, что индийцы чутко прислушиваются к голосам, раздающимся в Англии об их родине, что они от англичан узнали об истинной мощи России, о слабости британского владычества в Индии и о готовящемся походе русских на полуостров.
Можно полагать, что для англичан ныне наступило время зрело обсудить свое положение и признать, что с Россией выгоднее жить в добром согласия, нежели во вражде. Мнение, высказанное лордом Черчилем перед английскою палатою общин, подкрепляет это соображение. Хотя благородный лорд служил представителем довольно сильной партии народа, но он находился в меньшинстве, и ничто не указавало на то, что страна выскажется в пользу его соображений. Напротив, налицо имелось много доказательств тому, что предрассудки англичан относительно России настолько закоренелы, что наши соперники испытают еще несколько средств, дабы избежать прямого с нами соглашения.
Если эта наша догадка оправдается, то дальнейшие события в Средней Азии примут оборот совершенно противоположный тому, которого добивается Великобритания.
Никто не станет утверждать, что Россия готовится к вторжению в Индию во что бы то ни стало. Но неотразимая логика событий, направляемых недоверчивою рукою Англии, указывает, что весьма скоро наступит время, когда границею русских среднеазиатских владений станет хребет Гинду-Куш, этот естественный рубеж Индии, и в пределы России, по всей вероятности, будет включена Гератская область. В виду такого оборота дел англичане будут вынуждены занять Кабул и Кандагар, и таким образом произойдет непосредственное соединение русских и английских азиатских границ. Избежать этого события невозможно и никакия усилия государственных людей России и Великобритании не могут его предотвратить, так как крупные историческия события слагаются помимо воли людей, и все, что может сделать людская воля - это или несколько ускорить их, или несколько задержать.
Таким образом, весьма вероятно, русские аванпосты в Азии скоро сойдутся с английскими. Тогда явится вопрос: друзьями ли встретятся два великие народа или врагами?
Судя по тем отношениям, которые вполне выяснялись во время Крымской кампании и последней турецкой и ответственность за которые всецело падает на государственных деятелей Великобритании, встреча эта будет враждебная. Последствием этой вражды, если только она не будет с корнем вырвана теми, кто ее подогревает происками против России на Балканах, явится страшная борьба за преобладание в южной Азии и тогда представится во всем своем грозном величии вопрос о том - быть или не быть походу русских в Индию?
Владение Индиею для англичан ценно, между прочим, в том смысле, что для охранения в ней порядка им достаточно 220.000 армии, в рядах которой собственно европейских войск менее семидесяти одной тысячи. Финансы Индии истощены - это гласно признают сами англичане. "Индия высосана досуха", как они выражаются. Усиление англо-индийских войск на счет Индии немыслимо - так, по крайней мере, утверждают государствеыные деятели индийской империи. Всякое увеличение вооруженных сил потребует больших жертв со стороны английского народа, а эти жертвы исключают выгоду владения полуостровом. Лорд Черчиль, мужественно подняв свой голос против предрассудков своих соотечественнпков, прямо указывал именно на это важное обстоятельство.
Если теперь, когда еще Россия отделена от Индии полунезависимым Афганистаном, англичане тяготятся расходами, вызываемыми мирным владычеством на полуострове и лишь некоторыми намеками на возможность борьбы с Россиею, то что произойдет, когда на границе английских владений расположатся непосредственные владения России, могущей без всякого почти истощения своих неистощимых военных средств, выставить к стороне Индии армию в 500.000 человек, в рядах которой будет 400.000 европейского войска и 100.000 азиатской конницы?
Поход русских в Индию, находясь в прямой зависимости от образа действий Англии в Европе, а также от сдержанности русской азиатской политики, вероятно, произойдет в течение предстоящего десятилетия, а к тому времени население России возрастет до ста пятидесяти миллионов душ. Соответственно этому возрастет и ее армия, а также средства сосредоточения и передвижения последней. Для отпора нашествия русской армии, имея в виду, что многие из полунезависимых государей Индии могут перейти на сторону неприятеля, англо-индийская армия должна быть переформирована и усилена до 500.000 состава, что вызовет ежегодный дефицит в финансах индийской империи в 300.000.000 рублей. Армия эта должна быть всегда в Индии, ибо в виду быстрого похода русских из Герата к Кандагару и из Балха к Кабулу англичанам будет опасно ожидать подкреплений из Англии. Первые успехи русских на границах Индии могут, при известной политике России, поднять на ноги индийское население и тем парализовать действия англо-индийской армии. Тогда русские беспрепятственно войдут в долину Инда. Вот к чему может привести недоверие англичан к русской политике и противодействие их справедливым вполне законным требованиям России!
Вопрос о возможности вторжения русских в Индию, как было сказано выше, не подлежит сомнению. Что делали разные азиатские народы, то под силу организованной России и ее прекрасной армии. Но вот вопрос, который должен получить ныне же необходимое разрешение: идти ли нам на встречу будущего великого события и пытаться облегчить разрешение его или поставить ему известные преграды? Нам кажется, что для этого предстоит предварительно взвесить следующее: какая польза может произойти для русского народа от вторжения в Индию?
Поход в Индию может повлечь за собою четыре события:
1) уничтожение власти англичан на полуострове и образование в большей части Индии ряда независимых государств;
2) покорение Индии и основание в ней русско-индийской империи;
3) уничтожение власти англичан и основание на полуострове союза государств, который был бы поставлен под покровительство России, и
4) сохранение власти англичан при условии тесного, обоюдовыгодного, союза России с Великобританиею.
Уничтожение власти англичан и образование в Индии самостоятельных мусульманских и индусских государств, по всей вероятности, мало принесет пользы России, ибо можно заранее предвидеть, что те торговые сношения, которые, несомненно, завяжутся между индийцами и нами, будут постоянно находитъся под ударами междоусобий разных государств полуострова; при этом государства Индии, предоставленные самим себе, будут подвержены захвату англичан или какого либо другого европейского народа. Покорение Индии русскими и основание русско-индийской империи - это такое грандиозное предприятие, которое нельзя даже заранее обдумать. Если подобное событие случится, то слава России подымется высоко и русский монарх будет иметь более 450.000.000 поданных; Россия, связав индийскую железно-дорожную сеть с своею, даст гигантский толчек своей промышленности и торговле; русский народ разбогатеет и станет по силе и богатству первым народом мира. Все это, вероятно, и произойдет, если в Индию будет двинута достаточно сильная армия; но это такой великий, по своему существу, вопрос, который мы сами не можем решить: его решит, если только он должен быть решен, сила исторических судеб. Позволительно полагать, что в предвидении такого возможного великого будущего, которым не следует заранее смущаться, мы обязаны придать большую устойчивость нашему внутренному устройству и большую крепость нашим внешним связям. От хорошего отворачиваться не следует, и если русскому народу суждено стать на высоту, то этот великий свежий народ, имея во главе своей могущественного монарха и преданных ему и родине народных вождей, съумеет с честью и достоинством сохранить свое высокое положение. При этом не следует упускать из виду, что замена британского владычества русским принесет собою большое облегчение населению полуострова, так как русские, по своим естественным наклонностям, относятся гораздо человечнее к азиатцам, чем наши соперники.
Уничтожение власти англичан в Индии и основание в ней союза государств, поставленного под покровительство России, не принесет нам особой пользы как потому, что с подобным союзом довольно сильных государств придется считаться, так и потому, что он не представит вполне верного обеспечения против возможного нового вторжения на полуостров англичан и других европейских народов.
Сохранение власти англичан, при условии тесного обоюдо-выгодного соглашения Великобритании с Россией - было бы самым выгодным последствием русского похода в Индию. Не подлежит сомнению, что нам гораздо приятнее иметь своим непосредственным соседом в южной Азии англичан, чем пропитанных фанатизмом мусульман и расслабленных индийцев. Несомненно также и то, что нам выгоднее быть в тесном союзе с Великобританиею, самою могущественною морскою державою, чем находиться в постоянной борьбе с нею из за соперничества в Азии. Для Англии же в соглашении с Россиею заключается главное условие ее существования, как одной из великих азиатских держав.
Мы полагаем, что, если гордые британцы не вырвут с корнем вражду свою к России и будут противодействовать нам на Черном море, на Балканах и в Манджурии, дело не обойдется без нашего похода в Индию. Действительные последствия этого ожидаемого события, конечно, трудно предвидеть заранее; но можно думать, что когда русская армия продвинется к стороне Инда настолько, что англичане сознают опасность положения, то они немедленно предложат условия мира. Но тогда вопрос будет заключаться в том, будет ли выгодно русским останавливаться на половине дороги? Англичане будут поставлены в критическое положение, так как в тылу их действующей армии останутся разные полунезависимые государи, имеющие в своем распоряжении в мирное время 350.000 армию при 4.300 артиллерийских орудиях. На безусловную верность этих государей, во всем стесненных и весьма недовольных британким владычеством, англичане ни в каком случае не в праве разсчитывать.
Все это такие крупные вопросы, над которыми должны очень призадуматься наши соперники; и в таком государственном вопросе, как вопрос о существовании целой Империи, все должно быть заранее обдумано, и ничего не должно быть оставлено на произвол слепого случая.
Мы нисколько не сомневаемся в том, что Россия вскоре станет на границе непосредственных азиатских владений Англии, ибо не можем допустить, чтобы англичане ныне же спокойно могли сознать необходимость изменить, как это предложил им лорд Черчиль, свою европейскую, направленную против нас, политику. Наше наступательное движение к стороне Индии совершается медленно, не таким бурным потоком, каким шли азиатские народы, но за то оно более обдуманно и более прочно. Движение это ускоряется самими англичанами: они нас как бы подталкивают и торопят. Приближение русского могущества к Индии, как это было уже сказано, может легко повлечь за собою открытую борьбу между нами и Англиею, борьбу, крайне опасную для последней. В случае, если благоразумием правительств эта борьба будет приостановлена, для англичан может представиться другая опасность - восстание в стране и даже разстройство ее индийской армии. Население Индии, недовольное британским владычеством, взирает, как это удостоверено самими англичанами, на приближение русских войск с надеждою: оно желает этого приближения, видя в нем одно из средств избавиться от тяжелой опеки иноземцев. Не нам, конечно, разубеждать его в этом. Напротив, нам выгодно укреплять его в таком опасном для наших соперников настроении. Англичане слишком усердно высказывают свою вражду к России, и население Индии почти поголовно знает, что Россия и Англия готовятся к большой борьбе. Нам кажется, что это одна из самых опасных сторон английского владычества в южной Азии.
Совсем другая картина представится, если исконные наши соперники обратятся в наших искренних друзей: тогда положение их в Индии сразу окрепнет.
Мы понимаем вопрос, поставленный лордом Черчилем, и полагаем, что восстановление вполне дружеских отношений между Великобританиею и Россиею, нарушенных крымскою войною и берлинским конгрессом возможно лишь при помощи искреннего соглашения, основанного на взаимных выгодах. За обеспечение владения англичан в Индии, во многих отношениях, зависящего от России, последняя в праве требовать обеспечения владения Черным морем. В этом лишь смысле возможно прочное соглашение; вне этого соглашения Англии всегда будет грозить опасность отторжения от нее Индии.
Соглашение будет гораздо выгоднее англичанам, чем русским. Оно избавит их от постоянных тревог за Индию, успокоит население полуострова, которое бросит свои несбыточные надежды, а что всего важнее - отымет от европейских держав средство эксплоатировать англорусские отношения в их пользу и в прямой ущерб Англии, как великой морской державы.
Вопрос о Памире возник с 1891 года. Русские, афганцы, китайцы, англичане столкнулись на "крыше мира". Невзирая на соглашение, заключенное в 1885 году, граница там осталась недостаточно определенной и еще может подать повод к конфликтам.
Одинаково трудная и одинаково дорогая работа в одном и том же направлении
Г.И. Гурджиев в своих "Встречи с замечательными людьми", так описывал менталитет жителей Читрала:
"...Следует заметить, что психология жителей этого региона принципиально отличается от психологии европейцев. У последних, обычно, что на уме, то и на языке. У азиатов это не принято, они обладают амбивалентной психологией. Как бы вежлив и радушен ни был в общении с вами представитель этих народов, он при этом может ненавидеть вас всеми фибрами своей души и только о том и думать, как бы причинить вам какое-нибудь зло. Многие европейцы, десятилетиями живущие среди азиатов, так иногда и не осознают этой их характерной особенности и судят о них по себе, из-за этого очень часто попадая в различные неприятные и даже опасные ситуации, которых вполне можно было избежать. Коренные обитатели азиатского континента очень горды и самолюбивы. Каждый азиат, вне зависимости от социального и материального положения, требует проявления к себе внимания и уважения.В их среде не принято в разговоре сразу переходить к главному. Следует переходить к тому, что вас интересует, как бы невзначай, между прочим. Если вы не выполните этого условия, то в лучшем случае вам укажут направление, прямо противоположное тому, которое вам нужно. Но с другой стороны, если вы будете себя вести в соответствии с принятыми здесь условностями, то вам не только укажут правильное направление, но и сделают все, что в их силах, чтобы помочь вам попасть туда, куда вы направляетесь..."
Профессор Петербургского университета Николай Иванович Веселовский родился в Москве 12 ноября 1848 года, учился в Вологодской гимназии, которую окончил в 1867 году. Спустя два года он - студент Петербургского университета, факультета восточных языков, и специализируется "по арабско-турецкому разряду".
Уже его первая, студенческая работа "О податях и повинностях, налагавшихся монголами на побежденные народы" обратила на себя внимание профессуры и была удостоена золотой медали. По окончании полного курса молодой востоковед, за выдающиеся успехи оставленный и университете, подготовил диссертацию на степень магистра по теме "Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве с древнейших времен до настоящего" и защитил ее, после чего был утвержден доцентом, а с 1890 года - исправляющим должность ординарного профессора. В эти годы он написал несколько исторических работ, которые публиковал в газетах, журналах и научных сборниках. Среди них статьи "Куликовская битва", "Памятники дипломатических сношений Московской Руси с Персией", "Иван Данилович Хохлов, русский посланник в Персию и в Бухару в XVII веке" и многие другие.
В 1885 году Веселовский был командирован в Среднюю Азию (Туркестанский край) с целью археологических исследований. Там русский востоковед произвел раскопки древних городов, тщательно изучил и издал в цветных таблицах орнаменты гробницы Тимура в Самарканде. В 1905 году вышла его книга "Мечети Самарканда". Именно Н.И.Веселовский доказал, что старинные статуи, известные в науке под названием "каменных баб", которые встречаются в южных степях России, в Сибири и в Монголии, принадлежли племенам тюркского происхождения (в частности половцам).
Предлагаем вниманию записки, сделанные Николаем Ивановичем Веселовским: "Бадаулет Якуб-Бек, аталык Кашгарский".
"...Якуб-Бек представляется нам личностью довольно заурядною. Никакого образования он не получил, даже не был грамотен; ни военных, ни административных способностей он не обнаружил; а хитрость, в которой никто не отказывает Якуб-Беку, присуща в большей или меньшей степени всем азиатам, и ни в каком случае не может заменить того особенного ума, который принято называть государственным. Но, быть может, спросят: было же что-нибудь особенное в этом человеке с предосудительным прошлым - предосудительным потому, что и в Средней Азии профессия бачи сопровождается клеймом позора, - когда он достиг положения государя довольно обширной страны? Не даром же у него заискивала могущественная Англия и желала имет его в числе своих друзей? Ответ на эти вопросы дал сам Якуб-Бек. Он лучше всех сознавал, что никаких заслуг за ним нет, что все дело заключалось в счастии, которое вознесло его на такую высоту, до которой не подымались и люди, ему прежде покровительствовавшие, и усвоил себе титул Бадаулета - "счастливца".
Возвышение лиц подобного рода показывает до какой степени упала Средняя Азия и до какого ничтожества дошло ее население. Проследить жизнь среднеазиатских деятелей нового времени полезно и для того, чтобы понять ту среду, которой им приходилось управлять.
Якуб-Бек попал в Кашгар случайно. Назначение его дядькою к ходже Бузюрку состоялось не потому, что он занимал видное положение в Коканде или чем либо заявил себя в государственном управлении, а потому, что наиболее влиятельные и деятельные лица были отвлечены в другую сторону, именно на борьбу с русскими, победоносно двигавшимися к Ташкенту, и послать в Восточный Туркестан просто было некого. Водвориться же там ничего не стоило. И при китайском владычестве в истории Алтышара не было примера, чтобы тот или другой ходжа без успеха пытался отнять у китайцев Кашгар с ближайшими к нему городами, и не владел бы им более или менее продолжительное время, так как туземное население сейчас же переходило на сторону ходжей; а в это время и китайцев-то там не было по причине дунганского возстания.
Таким образом, все складывалось блогоприятно для Якуб-Бека. Сам же он действовал, можно прямо сказать, неумело. Распространить власть ходжей, если не на весь Восточный Туркестан, то на более или менее значительную часть его он не мог, пока не получил подкрепление от коканцев, после падения Ташкента, да и с ними не особенно отличился, так как отступал при малейшем сопротивлении и на поправление дела посылал своих помощников, всегда оказывавшихся далеко способнее своего начальника. С полным только успехом этот, не по заслугам прославленный дядька, изводил ходжей, которые с первых же месяцев по переселении в Кашгар внезапно стали умирать один за другим. Остались в живых совсем неопасные, да и то с удалением на китайскую границу. Для подобной политики не много ума требуется.
Ни коим образом нельзя поставить в заслугу Якуб-Беку и продолжительность властвования его в Восточном Туркестане, продолжительность более значительную, чем у предшественников его, ходжей. Но это опять чистая случайность. Китайцы, занятые усмирением дунганского возстания, не могли и думать о борьбе с Якуб-Беком, а как только справились с дунганами, сейчас же обратили против него свое оружие, и власть его пала так-же просто и скоро, как скоро и просто возникла, так как Бадаулет, не смотря на английские ружья, предназначавшияся, впрочем, не для китайцев, за все свое 12-ти летнее управление страной не сумел приготовиться к войне с китайцами.
И так, это величина крайне раздутая, и раздули ее мы, русские. У нас существовало убеждение, что Якуб-Бек в 1852 году отбил отряд Бларамберга, неудачно штурмовавшего Ак-Мечеть. Впоследствии выяснилось, что Якуб-Бека в то время в Ак-Мечети уже не было.
Кашгарским Бадаулетом очень интересовались англичане, думая найти в нем серьезного противника России. Известно, с каким усердием британское правительство вело переговоры с Якуб-Беком и собирало о нем сведения. Этих сведений накопилось так много, что на основании их плодовитый компилятор Boulger напечатал довольно объемистую книгу, в 335 страниц, под заглавием The life of Jakoob beg; athalik ghazi, and badaulet; ameer of Kashgar (London, 1878).
Наша литература не может похвалиться таким богатством, a между тем мы могли бы сделать для выяснения личности Якуб-Бека очень многое, так как еще живы некоторые сподвижники его, знающие подробности о жизни Бадаулета. Теперь у туземцев Туркестана нет обыкновения вести записи о совершающихся на их глазах событиях и со смертию очевидцев навсегда погибает источник для суждения об исторических фактах. Мне представился случай произвести опыт собирания сведений об Якуб-Беке.
В Ташкенте в настоящее время проживает кокандский сарт мирза Ахмед, бывший куш-беги, близко стоявший к Якуб-Беку и к событиям его времени. При помощи своей памяти, очень хорошо развитой у туркестанцев, мирза Ахмед мог бы составить интересную записку о приключениях Бадаулета, но он, к сожалению, оказался неграмотным, почему для достижения нашей цели пришлось прибегнуть к другому приему, именно к распросам. Мною была составлена небольшая программа и предложен ряд вопросов, на которые было желательно получить ответы. Опросить мирзу Ахмеда и записать его показания вызвался из дружбы и расположения ко мне ташкентский судья И. М. Оранский, который при посредстве переводчика и совершил этот далеко не легкий труд, а затем переслал мне данные мирзой Ахмедом показания. Они несколько кратки, но довольно интересны и, по нашему мнению, заслуживают полного доверия, так как в случаях, допускающих проверку по другим источникам, сообщения мирзы Ахмеда стоят совершенно непоколебимо. Быть может некоторые частности со временем примут иной вид или иное освещение, но в общем ход событий представлен верно. К Якуб-Беку мирза Ахмед относится спокойно, не превознося его и не унижая, и личность "счастливца" предстает перед нами живою, со свойственными человеку слабостями и коварством, в особенности присущим Востоку.
О мирзе Ахмеде упоминает доктор Беллью, спутник британского посланника Форсайта, отправленного к Якуб-Беку в 1873 году. Мирза Ахмед куш-беги встречал посольство. По свидетельству Беллью это один из самых приближенных ко двору лиц, по виду ему около 45 лет, у него крупные черты лица и густая борода, вообще же он красивый мужчина. В Коканде он принимал деятельное участие в политике и даже пытался, хотя и безуспешно, завладеть кокандским престолом.
Едва ли последнее замечание справедливо. Если бы в действительности произошло что-либо подобное, мирза Ахмед не преминул бы о том упомянуть и даже похвастать. Между тем вот что он сам говорит на эту тему. "После того, как бухарский эмир Музаффар объявил ханом Шамрат-Хана, который ханствовал 3 месяца и по удалении эмира из Коканда, был убит кипчаками, мы трое, мулла Алим-Кул, Мин-Бай и я, держали совет: кого назначить ханом? Мулла Алим-Кул сказал, что он желает снять с себя подозрение в смерти Малля-Хана и намерен провозгласить ханом сына последняго, Султана Саида. На это Мин-Бай возражал, говоря, что титул хана по справедливости должен принадлежать мулле Алим-Кулу. Я со своей стороны заметил, что мулла Алим-Кул не ханского рода и всего приличнее быть ханом Султану Саиду. Тогда мулла Алим-Кул поручил мне поразведать, кого сам народ желает иметь ханом: его ли, муллу Алим-Кула, иди Султана Саида? Народ склонялся на сторону последняго. Мин-Бай же опасался, что Султан Саид будет мстить кипчакам за смерть своего отца. Султану Саиду было тогда 23 года, а мулле Алим-Кулу - 34.
Упоминает о мирзе Ахмеде куш-беги и А. Н. Куропаткин, в бытность свою в Кашгарии в 1875-6 годах, прибавляя, что мирза живет в Кашгаре без большого влияния.
Н. Веселовский.
Рассказ Мирзы Ахмеда об Якуб-Беке. (Редакция Н. Веселовского)
Якуб-Бек - сын Латифа шакосы, сарта, жившого в селении Пскент ташкентского уезда. Лет восемьдесят тому назад Латиф был выслан из Пскента по повелению кокандского правителя Алим-Бека и поселен в местности Капа андиджанского уезда. Ссылка последовала за кляузничество и сплетни Латифа, доведенные до сведения Алим Бека кереучинскиы беком, дядею последнего. Капа служила местом ссылки потому, что вследствие низменного положения и сырости в ней летом бывает столько мошек и комаров, что жить там чистое наказанье. Во время пребывания Латифа в ссылке, у него родился сын Якуб.
По смерти Алим-Бека и затем брата его Омар-Хана, Латиф переселился в свой родной Пскент и вскоре умер. Малолетний Якуб остался на попечении своего дяди. Достигши юношеского возраста, Якуб начал посещать чай-ханэ, при чем обнаружил способность к пению; a так как он имел красивую наружность, то его стали называть Якубом-бачею. Такое поведение Якуба не нравилось его дяде, который решил дать другое направление деятельности своего племянника, научив его какому-нибудь ремеслу, для чего и отвез его в Ташкент, где определил к одному сарту, ткачу маты, проживавшему в беш-агачском квартале; но Якуб пробыл в ученье лишь несколько дней и бежал обратно в Пскент. Один из пскентских жителей, Абдухалык, находившийся в услужении у кереучинского бека Ирназар-Беглярбега, рекомендовал Якуба в служители к минбаши Гадай-Баю. Обязанности Якуба состояли только в том, что он грел кумган и подавал чилим своему хозяину. От Гадай-Бая Якуб перешел на службу к Мухаммед-Кериму Кашке, беку ходжентскому, и исполнял те же услуги.
Когда Мухаммед-Керим Кашка был вызван Мусульман-Кулом в Коканд и там зарезан, люди его частию разбежались, а частию поступили в войско ташкентского бека Азиза, назначенного на этот пост тем же временщиком, то и Якуб определился к Азиз-Беку джигитом в его войско. В то время в Ташкенте был казием Низам эд-Дин, зять Якуба, переведенный туда из Пскента. Низам эд-Дин устроил женитьбу кереучинского бека Нар-Мухаммеда на сестре жены своей и Якуба. Родственные связи с высокопоставленными лицами помогли Якубу возвыситься.
Когда власть Мусульман-Кула временно поколебалась, Азиз-Бек был удален из Ташкента, а его место занял Нар-Мухаммед в звании куш-беги. Прибыв в Ташкент Нар-Мухаммед сейчас же послал своего шурина Якуба правителем в Чиназ, а потом перевел его в Аулиэ-ата. В то время должность бека Ак-Мечети была самою доходною, так как через эту крепость шел караванный путь из Бухары в Оренбург, что доставляло большой таможенный сбор, и Якуб выпросил себе это место у Нар-Мухаммеда.
Полагают, что Якуб-Бек нажил там большое состояние, так как собирал произвольный зекят, взимал деньги со скота и барантовал. Прошел даже слух, что он за деньги уступил русскому правительству право пользования водою озера Сары-камыш. О последнем обстоятельстве караван баш Юлдаш-Бай донес Мусульман-Кулу, который поставил это на вид Нар-Мухаммеду куш-беги, вследствие чего тот потребовал объяснений от Якуб-Бека. Последний явился в Ташкент лично и заявил Нар-Мухаммеду, что донос на него сделан ложно и при этом представил тысячу тиллей, которых будто бы Нар-Мухаммед не принял; тем не менее Якуб-Бек удержался в Ак Мечети. Таким оборотом дела остался недоволен Худояр-Хан и прибыл с войском в Ташкент, чтобы лишить Нар-Мухаммеда занимаемой им должности. Дело уладилось мирно, так как куш-беги поднес хану богатые подарки и удержался на своем месте; а Якуб-Бека вызвал в Ташкент, где сделал своим помощником в звании батыр-баши. В Ак Мечеть был назначен беком Абдували, при котором эта крепость была взята русскими.
В Ташкенте Якуб-Бек оставался до тех пор, пока там управлял Нар-Мухаммед, а когда последний был смещен и вызван в Коканд, туда же отправился и Якуб-Бек. Здесь он просил меня исходатайствовать ему какую либо службу при ханском дворе, что и удалось, так как я тогда был гала-батырем и любимцем хана. Якуб Бек был назначен смотрителем посольского дома, но оставался в этой должности один месяц и по моему ходатайству получил место ходжентского бека. Случилось это после смерти Нар-Мухаммеда, убитого кокандскими сартами через 6 месяцев по прибытии его в Коканд, - в то время сарты ополчились на узбеков кипчаков и всюду истребляли их.
Управляя ходжентским бекством, Якуб-Бек уговаривал Рустам-Бека, уратюбинского бека, к которому приезжал по ночам, сделать доклад эмиру о неспособности Худояр-Хана править народом и просить его вмешательства в дела Коканда. Об этом сообщил Якуб-Бек и хатырчинскому беку Гадай-Баю. Худояр-Хан узнал об этом и послал людей захватить Якуб-Бека и доставить его в Коканд. Те действительно схватили Якуб-Бека, связали его и повезли к хану; но узник ночью зубами перегрыз веревки и бежал. Переплыв через Сыр-Дарью, он очутился на бухарской стороне и через Джизак прибыл в Бухару. Там он оставался 3 года и затем явился ко мне в Ташкент. Я стал ходатайствовать пред Худояр-Ханом за Якуб-Бека о прощении его, и хан уступил моим просьбам, повелев прислать к нему Якуб-Бека в Коканд. Три года Якуб-Бек оставался не у дел.
Однажды хан пригласил меня на обед; я застал хана читающим коран и ожидал когда он кончит чтение. В это время Якуб-Беку подали на грязной тарелке плов, который он наполовину съел, а другую половину отдал собаке. Это подействовало на меня удручающим образом. За ханским обедом я ел очень мало, что не укрылось от хана, который спросил меня, какая тому причина. Я отвечал, что у меня отбило аппетит положение несчастного Якуб-Бека. Тогда хан приказал позвать к обеду и Якуб-Бека. Тут же присутствовал бек Канаат. Пользуясь вниманием Худояр-Хана к Якуб-Беку, я просил о награждении последнего халатом, что и было исполнено, кроме того хан назначил Якуб-Бека понсатом (начальником над 500 воинами). Случилось это менее чем за год до взятия русскими города Ташкента, а месяц спустя бухарский эмир подступил к Коканду и отправил Худояра в Бухару, а на ханство возвел его племянника, Шамрат-Хана, сына Сарымсака, брата Худоярова. По удалении эмира кокандцы убили Шамрат-Хана и избрали ханом Султана Саида. При нем Якуб-Бек остался не у дел, хотя и продолжал жить при ханском дворе. Тяготясь таким положением, он обратился ко мне за советом, как бы ему устроить иную, лучшую жизнь? При этом Якуб заметил, что боится муллы Алим-Кула, который относится к нему недоверчиво. Я обещал Якуб-Беку помочь и вскоре мне представился к тому случай. По некоторым делам я отправился к Алим-Кулу и тот, между прочим, сообщил мне, что в виду русских завоеваний его занимает мысль о вознаграждении за причиненные потери, в другом месте, а именно в Кашгаре, где царит беспорядок. При этом Алим-Кул спросил меня: кого бы отправить в Кашгар, чтобы водворить там кокандское влияние? Я указал на Якуб-Бека. На это Алим-Кул заметил, что намеченный мною кандидат - человек опороченный и не заслулшвает доверия. Однако мои доводы подействовали на Алим-Кула, который согласился послать Якуб-Бека в Кашгар, но потребовал моего поручительства в том, что Якуб-Бек не изменит своему отечеству. Я и Хош-Дадха, ташкентский бек, дали такое поручительство и тогда Якуб-Бек был послан с Бузрюк (то есть Бузюрк) Ходжею, потомком Аппак-Ходжи, в Кашгар. Собственно говоря, больше прав на ханство в Кашгаре имел ходжа Мухаммед-Эмин, двоюродный брат Бузюрка, сын Мухаммед-Юсуфа тюри, уже правивший прежде этим ханством в течение трех лет и оставивший эту страну пред тем лет 12, не надеясь на успех в борьбе с китайцами. Ему предпочли Бузюрк-Ходжу на том основании, что это был человек глупый и слабый, не способный освободиться от кокандского влияния, тогда как ум и самостоятельность Мухаммед-Эмина сильно смущали кокандцев, которые много раз имели случай убедиться в этих его качествах, потому что Мухаммед-Эмин все это время заседал в совете хана, и ни одно серьезное дело не решалось без его участия. Оба ходжи проживали тогда в Коканде. Случилось это за полгода до падения Ташкента.
В то время Кашгарская область находилась под управлением дунганина Дауд-Ахуна, имевшого пребывание в Урумчи и не подчинявшегося Китаю. Покорив Кашгар, Дауд вернулся в Урумчи, но по дальности расстояния - три месяца езды - власть Дауда в Кашгаре была ничтожна. Якуб-Бек, по данной ему инструкции, должен был освободить Кашгарскую землю от дунганского владычества, но когда прибыл в Кашгар, то по недостаточной численности войска, ничего предпринять не мог. Дунгане же, узнав о появлении в Кашгаре хана, пошли против него. Якуб-Бек заперся в Кашгаре и оттуда писал мне, чтобы я спешил к нему на помощь.
Между тем Алим-Кул пал, и Ташкент перешел в руки русских. Войско кокандское удалилось в Коканд, где не было хана, так как Эмин потребовал Султана Саида в Бухару, и войско оставалось без дела, что и дало мне возможность отправиться в Кашгар. С другой стороны и Мухаммед-Эмин-Ходжа, прослышав о дурном поведении Бузюрк-Ходяш, решился поехать в Кашгар и просил меня сопутствовать ему. Я был в очень хороших отношениях с Мухаммед-Эмином и надеялся при его помощи устроить и свое положение в Кашгаре - это еще более побудило меня отправиться туда.
Что же касается Бузюрга-Ходжи, то он сейчас же по прибытии в Кашгар предался всем удовольствиям жизни. Во дворце его днем и ночью был машраб, по ташкентскому - безм. Кашгарские мущины и женщины большие мастера играть на дутаре (двухструнный инструмент), на тамбуре (трехструнный), гиджеке (скрипка), нае (духовой инструмент) и бубне. Под музыку девушки и женщины поют песни и танцуют. Вообще кашгарцы очень любят веселиться. В городе для этого существует особое здание, называемое Пайкабак, где музыканты ежедневно в полдень игрою с крыши этого здания возвещают горожанам о начале гулянья. Тогда туда стекаются женщины и девушки, танцовщицы и песенницы, собираются зрители, и начинаются танцы под музыку. Кто не имеет возможности идти в Пайкабак, те устраивают танцы под пайкабакскую музыку на крышах своих домов. В Пайкабак приносят мусалляс (кишмишевая водка), который пьют не только мущины, но и женщины. Женщины в Кашгаре не закрывают своих лиц.
Разгульная жизнь Бузюрк-Ходжи возбудила против него неудовольствие в народе и в войске, а Якуб-Бек не предостерегал ходжу от последствий такого поведения.
Когда Мухаммед-Эмин прибыл в Кашгар, народ и войско просили его взять в свои руки управление областью. Тогда Бузюрк-Ходже ничего более не оставалось, как удалиться из Кашгара, что он и сделал, спустя неделю по водворении Мухаммед-Эмина в Кашгаре, под предлогом пилигримства в Мекку. До Мекки, однако, Бузюрк-Ходжа не добрался, а из Персии вернулся в Коканд, где осенью того же года умер.
Хотя Мухаммед-Эмин и занял место Бузюрк-Ходжи, но всеми делами по-прежнему распоряжался Якуб-Бек. Он сейчас же отправил меня к городу Маралбаши, чтобы выгнать оттуда дунган. Я взял город и донес о том Якуб-Беку. В ответ на это извещение я получил уведомление, что Мухаммед-Эмин умер. В Кашгаре он пробыл всего 3 месяца. Подозревали, что он был отравлен. Мухаммед-Эмин иначе назывался Ишан-Ханом. Через два месяца после того последовала смерть Валихана тюри. Он не любил Якуб-Бека и тот со своей стороны считал для себя Валихана опасным. Говорят, что Якуб-Бек подослал к Валихану своих приближенных, которые рекомендовались тюре врачами и, будучи приняты им, отравили его.
По смерти Мухаммед-Эмина верховная власть должна была перейти к сыну его Хаким-Беку; но это не входило в планы Якуб-Бека, который поспешил удалить ходжу, назначив его беком в Маралбаши.
Успех действий под Маралбаши побудил и самого Якуб-Бека отправиться походом в Аксуйскую долину для присоединения ее к Кашгару. Он пробыл в походе три года. Завоевав город Куня-Турфан, он посадил там беком Хаким-Хана; а сам отправился на Урумчи, подчинявшийся Дауд-Ахуну. В Урумчи был беком Суянчишай-Бек, изгнанный из Куня-Турфана. Дауд-Ахун выступил против Якуб-Бека с войском, простиравшимся до 90 тысяч человек. Якуб-Бек должен был отступить. Остановившись в Кургане Даки-Юнус, он послал меня с войском в Урумчи. Я сражался с урумчинцами, но, убедившись, что взять город нет возможности, я, с согласия Якуб-Бека вступил в переговоры с Дауд-Ахуном о мире, который и был заключен, после чего Якуб-Бек направился в Куня-Турфан, а оттуда в Кашгар.
Резиденцией своей Якуб-Бек избрал город Курлю, отстоящий от Кашгара на 12 дней езды, в Кашгар же приезжал он только по особенным случаям и для торжественных приемов. Так в Кашгаре был принят английский посол Форсайт, но русский посланник Куропаткин ездил в Курлю.
Еще при жизни Мухаммед-Эмина Якуб-Бек усвоил себе титул Аталыка. Так назвал его Худай-Кул Ибрагимов (бельвакчи-хан), торговец поясами, самозванный хан омского кочевого населения. Худай-Кул был намерен придти со своим войском в Кашгар и просить на то разрешения у Якуб-Бека, которого титуловал в письме Аталыком. Сам же Якуб-Бек называл себя Бадаулетом.
Преследуя цель утвердить за собою власть в Кашгаре, Аталык обратился с письмом к английской королеве, прося у нее совета и указания, как управлять народом. Королева посоветовала ему обратиться за такими указаниями к турецкому султану. Тогда Бадаулет Якуб вошел в сношения с султаном, объявил его своим главою и просил разрешения помещать его имя на монетах. Султан посылал Якубу оружие и людей, знавших военное искусство. В числе таковых был Заман-Бек, сделавшийся впоследствии переводчиком канцелярии туркестанского генерал-губернатора.
Якуб-Аталык находился в хороших отношениях с каратегинским беком, своим соседом, сносился с кулабским правителем, раджей кашемирским, с английским правитсльством в Индии. Последнему он писал, что русские завоевали Среднюю Азию, и только Кашгар представляет стену, отделяющую русских от Индии: "если вода промоет эту стену, то пойдет дальше, поэтому надо поддержать и укрепить стену, чтобы не пропустить воды".
Английский посланник Форсайт жил в Кашгаре 6 месяцев. Он говорил, что английское правительство желало бы учредить консульство в Кашгаре и просил Якуб-Бека послать в Лондон дипломатическое лицо для переговоров о там какие границы нужны Якуб-Беку и как их укрепить. Форсайт заверял, что если Якуб-Бек будет жить в мире с антличанами, они помогут ему расширить границы его ханства до Багдада, и дадут вспомогательное войско. Форсайт собирал сведения о торговле. Пребывание его надоело Якуб-Беку и насилу удалось выпроводить его.
После того приезжало русское посольство, состоявшее из Куропаткина и Сунаргулова. Куропаткин просил показать ему кашгарское войско, но получил отказ.
В политических делах советником Аталыка был Ишан-Хан, сын Низам-эд-Дина, казия сначала пскентского, а потом ташкентского. Ишан-Хан человек бывалый: он путешествовал в Турцию и Индостан, был в Мекке. Незадолго до своей смерти Якуб-Бек отправил его к китайскому императору для переговоров, так как прошел слух о вооружениях китайцев против Кашгара. Ишан-Хан не возвратился уже в Кашгар и, по слухам, живет в Индии.
Когда Якуб-Бек отправлялся в поход, он оставлял в Кашгаре кого-либо из уполномоченных им лиц, а когда прибыл из Коканда сын его, Бек-Кули-Бек, то управление поручалось ему. Однако все вершилось по инструкциям и указаниям Аталыка.
Кроме Бек-Кули-Бека к Якуб-Беку прибыли из Коканда и другие сыновья: Хайдар-Бек, Худай-Кул-Бек и Хакк-Кули-Бек. Хайдар-Бек долго оставался в Пскенте и явился к отцу только за два года до смерти Якуб-Бека, а потом опять вернулся в Пскент. Любимым сыном его был Хакк-Кули-Бек, которого Якуб-Бек называл настоящим сыном. Он считался лучшим стрелком, отличался силою и был на год моложе Бек-Кули-Бека. Между этими двумя братьями существовала непримиримая вражда, вследствие чего Якуб-Бек постоянно держал Хакк-Кули-Бека при себе. Этот юноша погиб рано, когда ему было с небольшим 20 лет.
Якуб-Бек умер при следующих обстоятельствах. Чустский житель мирза Комыль, служивший письмоводителем у Якуб-Бека, составил бумагу, содержание которой не понравилось Аталыку, и он приказал переписать ее, но и вторым изложением он остался недоволен и снова потребовал переделки. Наконец, выведенный из терпения, схватил батик и начал бить мирзу. От злости с ним сделался припадок, у него потекла из носу кровь, и он умер от удара. Очевидцем смерти Якуб-Бека был Нияз-бек-Дадха, яркендский бек, состоявший при Аталыке заведующим финансами.
Хакк-Кули-Бек зашил в кожу труп отца и повез в Кашгар для погребения, Дорогою в Янги-абаде похоронную процессию встретили посланцы Бек-Кули-Бека и убили Хакк-Кули-Бека, которого бросили в колючки, а тело Якуб-Бека доставили в Кашгар. Здесь Бек-Кули-Бек потребовал от своих посланцев доказательств смерти его брата и те должны были вернуться на место убийства, там отыскали тело убитого, отрубили голову и представили ее Бек-Кули-Беку.
Якуб-Бек целый месяц оставался не похороненным.
Якуб-Бек был среднего роста, имел широкие плечи, густую бороду, немного рябоватое лицо, вообще отличался красивою наружностию и довольно значительною полнотою. Он не был грамотен. По внешней набожности Якуб-Бек считался ишаном, он возстановил в Кашгаре соборную мечеть, построил мечеть в своем дворце, наблюдал за исправным содержанием медресе и памятников на могилах святых, соорудил в Мекке от имени города Кашгара сарай для посетителей святого места.
Народ не любил Якуб-Бека за то, что он налагал тяжелые подати. Так, он требовал 1/9 часть урожая не зерном, а его стоимостью, и брал, как деньги, так и зерно, вследствие чего выходила подать двойная. Он отбирал от общества земли, называл их казенными, и затем по нескольку раз продавал тем же обществам. Но не в этих только случаях, а и во всем он действовал произвольно.
Гарем Якуб-Бека состоял из 300 жен. Кроме того старухи-сводницы, получавшия от него содержание, собирали сведения о красивых девушках Кашгара, и из них ежедневно доставлялось ему до 20 девиц, из которых он оставлял одну. Ни одной девице не дозволялось выходить замуж без его разрешения. Отличительною чертою Якуб-Бека была хитрость. Властвовал он в Кашгаре 12 лет, не оставив по себе доброй памяти.
Во время смерти Якуб-Бека я находился в Кашгаре под арестом по распоряжению самого Якуб-Бека, сделанному им за полгода до кончины. За что я был арестован, мне осталось неизвестным. После смерти Якуб-Бека я получил свободу и тотчас же уехал из Кашгара. Меня сопровождали кокандцы в числе 1000 человек, и потом они поселились в разных местах Туркестанского края.
Оставили Кашгар и кокандские солдаты. Хаким-Хан, аксуйский бек, покинул Куня-Турфан и через Нарын и Верный пришел в Ташкент, где был задержан русским начальством на 6 месяцев, а затем поселился в Ферганской области в селении Шаари-хане, где живет и поныне, получая средства к существованию от народа, как уважаемый потомок ходжей.
Бек-Кули-Бек по смерти отца оставался в Кашгаре с полгода. Он отправил было посланца в Англию, дал ему 30.000 тиллей на закупку оружия, но потом посланного вернул, отобрал деньги и покинул Кашгар.
После я слышал, что китайцы, по взятии Кашгара, достали труп Якуб-Бека и сожгли его.
Весь XIX век прошел под знаком англо-русского соперничества на Востоке. Остроту этого соперничества можно понять, если учесть, что и русские, и англичане считали, что на карту поставлено само существование государства: "Англия должна быть первой среди наций и руководить человечеством или отказаться не только от своих владений, но и от своей независимости", - писала газета "National Review".
Русские ставили вопрос так: "Или действовать решительно, или отказаться от своих владений в Азии... заключив государство в границах начала XVII столетия" [Долинский В. Об отношении России к Среднеазиатским владениям и об устройстве киргизской степи.]. Англичане же, в свою очередь, слагали стихи, что "русские никогда не будут в Константинополе".
Г лавным стержнем английской политики была оборона Индии. Генерал-майор У.Мак-Грегор по дням во всех деталях просчитывает, как русские могли бы завоевывать Индию [Morris J. Pax Britanica. The Climax of an Empire.]. Бери и пользуйся! В 1868 году генерал-майор сэр Г.Раулинсон довольно остроумно описывает стратегию действия русских на Востоке и весьма проницательно предсказывает порядок их дальнейшего продвижения. Генерал Снесарев в раздражении называет все рассуждения Раулинсона "белибердой", но, несмотря на это, и в России вынуждены признать, что Раулинсон предугадал очень многое, что совершалось впоследствии.
Поход русских на Индию никогда не был делом решенным, но время от времени он обсуждался более-менее серьезно, предприятие казалось вполне выполнимым. При благоприятных обстоятельствах сплав войск к воротам Индии не только возможен, но и удобен. Однако ставился разумный вопрос: если завоюем Индию, что будем с ней делать дальше?
Француз Г.де Лакост уехал на Восток, желая описать для европейской публики подробности ожидаемой смертельной схватки: "Я выехал из Парижа, проникнутый идеями, что фатальная борьба между китом и слоном неизбежна. В Турции, Туркестане, Кашгаре и Индии я собрал сведения, которые привели меня к заключению совершенно противоположному". Вывод де Лакоста вполне категоричен: "Столкновение бесполезно, и им выгодно путем дружелюбным согласиться на справедливый дележ".
В последней трети XIX века тема о желательности примирения начинает звучать все чаще. Ведь соперничество "приблизилось к той стадии, когда соперники должны либо стать открытыми врагами, либо друзьями-партнерами. В 1907 году между Россией и Англией было подписано всеобъемлющее соглашение о разграничении сфер влияния на Среднем Востоке. Необходимость срочного примирения диктовалась причинами внешнеполитическими (на восточную арену вступает новый игрок - Германия). Но велика была и роль причин внутреннего характера. Их хорошо сформулировал М.Н.Аненков в послесловии к работе английского полковника Джона Эдея "Ситана. Горная экспедиция на границе Афганистана в 1863 г.": "Задача им и нам поставленная Провидением и состоящая в том, чтобы цивилизовать Среднюю Азию, одинаково трудна: они и мы должны бороться с фанатизмом, невежеством, косностью, почти дикостью, и потому между ними и нами нет возможности найти повода к ссоре и даже к соперничеству. Нам предстоит одинаково трудная и одинаково дорогая работа в одном и том же направлении".
Казалось бы, ничего более несовместимого представить невозможно. Столь различны были эти две империи - Российская и Британская, не только по истории своей, но и по духу, по смыслу своему, по реальности, которую они создавали в своих пределах, по своей культурной и психологической подоплеке, - что трудно представить себе задачу, которую им пришлось бы решать в сходном направлении и испытывать одни и те же трудности.
Хочется обратить внимание на то глубинное различие между Россией и Британией, которое относится к сути их туземной политики, и было вполне корректно сформулировано тем же французом де Лакостом: "Если русские стараются проникнуться духом побежденного народа, чтобы его ассимилировать, то англичане всегда сохраняют свою европейскую культуру и навязывают себя покоренному населению".
А современный исследователь этнических проблем Р.Шермерхорн, утверждая неразрывность понятий "империализм" и "расизм", замечает, что история знает-таки одно исключение: Российская империя расизма не знала никогда. Трудности, безусловно, неизбежны и для тех, и для других. Но как они могли быть одинаковыми?
Тем не менее, сходства между Британской Индией и Российской Средней Азией гораздо больше, чем-то представляется на поверхностный взгляд, в частности и в том, что кажется наименее вероятным - в формах имперского управления. Так мы привыкли считать, что для Российской империи характерно прямое управление, а для Британской - протекторат.
На практике все было сложнее (или, если хотите, проще). В Британской Индии наблюдалась очевидная тенденция к прямому и унитарному управлению. Еще в начале XIX века исследователь Британской империи шведский генерал-майор граф Биорнштейн писал, что вероятнее всего "субсидиальные [протекторатные] государства будут включены в состав владений [Ост-Индской] компании по мере того, как царствующие ныне государи перестанут жить". И действительно, к семидесятым годам XIX века из 75.883 квадратных миль, образующих англо-азиатский мир, 30.391 квадратную милю составляли протекторатные государства, а 45.492 квадратных мили находились под прямым управлением [Венюков М. Краткий очерк английских владений в Азии.]. И с течением времени "тенденция сводилась к более решительному и энергичному контролю метрополии над аннексированными территориями; протектораты, совместные управления и сферы влияния превращаются в типичные британские владения на манер коронных колоний" [Гобсон И. Империализм.].
На протяжении всего XIX века наблюдается явная тенденция к авторитаризму. Так, Джон Морли, статс-секретарь по делам Индии, в речи, произнесенной в 1908 году в палате лордов, заявил: "Если бы мое существование в качестве официального лица и даже телесно было продолжено судьбою в 20 раз дольше того, что в действительности возможно, то и в конце столь долгого своего поприща я стал бы утверждать, что парламентская система для Индии совсем не та цель, которую я имею в виду". Киплинг, был безусловным сторонник жестко авторитарного управления Индией, которое он сравнивал с локомотивом, несущимся полным ходом; никакая демократия при этом невозможна.
В описываемый период именно данные идеи в значительной мере определяли политику англичан в Индии, хотя наряду с ними существовали и цивилизаторско-демократические идеи, которые с начала XX века стали проявляться все более отчетливо, а после первой мировой войны превратились уже в доминирующие. Но конечно понадобилось широкое антиколониальное и антибританское движение, чтобы Индия добилась независимости.
Британская Индия представляла собой почти особое государство, где большинство дел не только внутренней, но и внешней политики находилось в ведении генерал-губернатора Индии. Ост-Индская компания была чем-то вроде государства в государстве, обладала правом объявлять войны и заключать мир. Но и после упразднения компании в 1858 году, в компетенцию индийского правительства входило "поддержание мира и безопасности в морях, омывающих индийские берега, наблюдение за движением морской торговли и тарифами своих соседей, течением событий на границах Афганистана, Сиама, Тонкина, Китая, России и Персии, защита владетелей островов и приморских областей в Персидском заливе и на Аравийском полуострове и содержание укрепленных постов в Адене" [Филлипов И.И. Государственное устройство Индии.1911 г.].
Со своей стороны, Туркестан представлял собой тоже достаточно автономное образование, находясь под почти неограниченным управлением туркестанского генерал-губернатора, которого "Государь Император почел за благо снабдить политическими полномочиями на ведение переговоров и заключение трактатов со всеми ханами и независимыми владетелями Средней Азии", не говоря уже о решении внутренних проблем края. [Терентьев А.М. Россия и Англия в Средней Азии. 1875.]
Так же как и англичане, русские в Средней Азии "оставляли своим завоеванным народам многие существенные формы управления и жизни по шариату", при том, что на других окраинах империи система местного самоуправления и социальная структура унифицировались по общероссийскому образцу. И если еще при организации Киргизской степи "родовое деление киргиз уничтожалось" (заметим, что киргизами в литературе того времени именовались просто тюрки-кочевники), точнее игнорировалось при образовании уездов и аулов, то уже в Туркестанском крае крупные родовые подразделения совпадали с подразделениями на волости, родовые правители были выбраны в волостное управление и недовольных не оказалось.
Россия в Средней Азии попробовала и протекторатную форму правления (в вассальной зависимости от нее в различное время находились разные азиатские ханства, российским протекторатом была Бухара). Более того, русские усвоили себе и чисто английские способы действия в зонах влияния, в частности, "аксиому": "нация, занимающая у нас деньги - нация побежденная" [Лакост Г.де Россия и Великобритания в Центральной Азии. 1908] и добились экономического преобладания в Персии, путем разумной тарифной (имеется в виду мероприятия гр. Витте) и транспортной политики, и даже завязали экономическую борьбу с Англией в Персидском заливе, силясь отнять у этой последней бесспорно принадлежащее ей до того торговое преобладание. Все это конечно, под аккомпанемент жалоб на свою полную неспособность к торговле: "Бухара, Хива, Кокан больше ввозят в Россию, нежели получают из нее, выручая разницу наличным золотом ... Торговля с Персией тоже заключается большей частью в пользу иранцев ... Какая уж тут борьба с Англией, когда мы с киргизами и бухарцами справиться не можем".
Однако в русской печати появлялись и совершенно новые, металлические нотки: "Ни одно европейское государство, имеющее владения на Востоке, не относится нигде к азиатским подданным, как к собственным гражданам. Иначе быть не может... Европейские подданные составляют самую суть государства, азиатские же - политическое средство для достижения цели" [Фадеев Р. Письма с Кавказа к редактору Московских ведомостей. СПб., 1885 ]. Короче, одни мы такие глупые, что прежде всего любым туземцам на любой окраине даем права нашего гражданства, после чего уже не можем драть с них три шкуры.
К счастью, эти сентенции, совершенно убийственные для русской имперской психологии, особого резонанса не получили. Что же касается экономической стороны колонизации, то аргументы и англичан, и русских схожи, а высказывание Дж.Сили на этот счет просто великолепно: "Индия не является для Англии доходной статьей, и англичанам было бы стыдно, если бы, управляя ею, они каким-либо образом жертвовали ее интересами в пользу своих собственных".
В России не прекращались сетования по поводу того, что все окраины, а особенно Средняя Азия, находятся на дотации. Правда, однако, то, что Россия в XIX веке делала в Средней Азии большие капиталовложения, не дававшие непосредственной отдачи, но обещавшие солидные выгоды в будущем; в целом, кажется, экономическую политику России в Средней Азии следует признать разумной. Но вернемся к нашему сравнению.
Русские совершено сознательно ставили своей задачей ассимиляцию окраин: Русское правительство должно всегда стремиться к ассимилированию туземного населения к русской народности, то есть к тому, чтобы образовать и развивать [мусульман] в видах правительства, для них чужого, с которым они неизбежно, силой исторических обстоятельств, должны примириться и сжиться навсегда. Дело доходило до того, что мусульманам платили деньги, чтобы они отдавали детей в русские школы. На совместное обучение русских и инородцев, то есть на создание русско-туземных школ, при первом генерал-губернаторе Туркестана К.П. фон Кауфмане делался особый упор, причем имелось в виду и соответствующее воспитание русских: "туземцы скорее сближаются через это с русскими своими товарищами и осваиваются с разговорным русским языком; русские учебники школы также сближаются с туземцами и привыкают смотреть на них без предрассудков; те и другие забывают племенную рознь и перестают не доверять друг другу... Узкий, исключительно племенной горизонт тех и других расширяется" [Остроумов И. К истории народного образования в Туркестанском крае. Личные воспоминания. Ташкент, 1895.]. Туземные ученики, особенно, если они действительно оказывались умницами, вызывали искреннее умиление. Тем более "в высшей степени странно, но вместе с тем утешительно видеть сарта [таджика], едущего на дрожках, либо в коляске, посещающего наши балы и собрания, пьющего в русской компании вино. Все это утешительно в том отношении, что за материальной стороной следует и интеллектуальная" [Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. 1870]. Неутешительно было только то, что туземных учеников в русско-туземных школах считали единицами, ассимиляция почти не происходила, русские и туземцы общались между собой почти только лишь по казенной надобности, а "в местах, где живут вместе русские и татары, все русские говорят по-татарски и весьма немногие татары говорят по-русски" [Сборник документов и статей по вопросу образования инородцев. 1869.].
При этом русские живут на новозавоеванных территориях под мощной защитой правительства: "Нас ни сарты, ни киргизы не обижают, ни Боже мой! Боятся русских!.. Мы с мужем три года в Мурза-Рабате на станции жили совсем одни, уж на что, кажется, степь глухая... А никогда ничего такого не было, грех сказать. Потому что строгость от начальства. А если бы не строго, и жить было бы нельзя!.. Промеж собой у них за всякую малость драка". То же рассказывают мужики, волей судьбы оказавшиеся близ Ашхабада: "Здесь на это строго. Чуть что, сейчас весь аул в ответе. Переймут у них воду дня на три, на четыре, - хоть переколейте все, - ну и выдадут виновного. А с ним расправа коротка... Дюже боятся наших..." [Марков Е. Россия в Средней Азии. Т.I. СПб.,1901].
Так что русские, по существу, оказывались, хотели они того или нет, привилегированным классом, к которому относились с опаской и контактов с которым избегали.
То, что гражданство империи давалось не по мере принятия имперского принципа, а изначально, сути империи как таковой не затрагивает. Это лишь подчеркивает имперскую самоуверенность: абсолютную убежденность в том, что принцип в конце концов будет принят. Но произошла подмена принципа: место Православия занял гуманитаризм, учение, естественно смыкавшееся с национализмом европейских народов. На той же основе постепенно формировался и русский национализм, который большей частью выражался не прямо, через сознание национального превосходства, а встраивался в рамки исконно русского этатизма, который, таким образом, лишался своего религиозного содержания и выливался уже в государственный эгоизм.
В свою очередь, эта подмена ограничивала культурную экспансию: получалось, что русские несли в завоеванные страны не столько свое представление о мире, сколько идеи, заимствованные у Запада, отчасти у тех же англичан - роль России оказывалась посреднической, а не самобытной. Поэтому естественно, что даже при общепризнанных ассимиляторских потенциях русской культуры, ассимиляция оставалась незначительной.
Собственно, русские уже и не доносили до покоренных народов того принципа, которые те должны были по идее (идее империи) принять, его уже почти забыли и сами русские государственные деятели. Система образования по Ильминскому, широко практиковавшаяся в разных уголках империи, тому яркий пример. И выходило так, что при всей своей разнице в методах и приемах туземной политики англичане и русские достигали сходного результата, потому что все более сближалась их идеологическая база, что для России оборачивалось полным выхолащиванием державного принципа.
Это обстоятельство способствовало дальнейшему упадку империи. Не столько ослабление внешнего могущества, сколько утрата внутреннего стержня, духовно-идеологического оправдания своего присутствия на Востоке, что было следствием утраты Россией смысла самой себя, привело к разрушению в устроении огромной территории. Только обретение новой формулы и структуры такого устроения обеспечило в последующие десятилетия взаимодействие России с восточными цивилизациями.
Чтобы понять сегодняшнее положение дел, нужно вспомнить о том, что после колонизации этого региона Россия сделала все, чтобы выделить его из тюрко-персидской зоны, к которой он всегда принадлежал. Культурная и административная русификация оставила там глубокий след, не до конца стершийся и сегодня. После большевистской революции регион был полностью перекроен. Опираясь на местные влиятельные круги, Сталин, можно сказать, заново изобрел этот регион и начал его советизацию. Он перекроил все границы и создал в Средней Азии пять советских республик: Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизию и Туркменистан.
Развитые окраины - сильная страна, слабые окраины - слабая страна
"...Четвертой победой Мир Султан-шаха было завоевание пределов и подчиненных местностей области Читрал - обиталища веселия, которое является частью Дардистана.
Мир Султан-шах сказал: "Если Господь сочтет меня достойным, то я благополучно завоюю область Читрал".
Время наступления этого события и выполнения этого желания произошло в 1751 году, в тот момент, когда Султан-шах принял решение истребить людей, приверженных отвратительной, ложной ереси исмаилизма, существующей в областях Бадахшана и Читрала. Они намеревались управиться с ними насилием и пыткой, учитывая при этом и соображения захвата новых земель...".
ИСТОРИЯ БАДАХШАНА. ТА'РИХ-И БАДАХШАН.
Автором данного сочинения являлся Санг Мухаммад Бадахши -
его изложение истории Бадахшана охватывало период с 1657-1809 годов.
Однако нынешние исмаилиты мало чем напоминают ушедших в небытие грозных ассасинов. На западе Памира, в Горном Бадахшане проживает одна из крупнейших исмаилитских общин. Считается, что исмаилизм проник в этой район еще в X веке. Но с XIV века местная община полностью утратила связи с имаматом. В 1895 году территория Горного Бадахшана была разделена между Российской и Британской империями. Будучи результатом политического компромисса, это решение никак не учитывало исторического и культурного контекста региона. В результате один народ оказался разделенным между двумя государствами. Эта граница существует до сих пор, проходя вдоль реки Пяндж (Амударья) и отделяя юго-восточные районы Таджикистана от северо-восточных областей Афганистана.
Горно-Бадахшанская автономная область - совершенно особый район Таджикистана. Зимой попасть сюда практически невозможно. Здесь находятся самые высокие в бывшем СССР горы и тысячи озер. Марко Поло, первый европеец, описавший Внутреннюю Азию, назвал Бадахшан "крышей мира".
Но особенности ландшафта - не единственная причина, по которой эта территория оказывается почти полностью изолированной и не контролируется официальным Душанбе. Жители равниной части Таджикистана всегда относились к исмаилитам с легким презрением. Последние, в свою очередь, называют себя потомками Александра Македонского, войско которого проходило через территорию Бадахшана в IV в до н.э., и потому считают себя более европеизированными, нежели прочее мусульманское население страны. Причину такого отношения стоит искать в этническом и религиозном неприятии, издавна существующем между исмаилитами-шиитами и таджиками, исповедующими ислам суннитского толка.
Помимо этого, существует еще и языковая несовместимость: равнинные таджики принадлежат к западноиранской, а памирцы - к восточноиранской этно-лингвистической подруппе. В советские времена памирцы на презрительное отношение к себе со стороны таджиков отвечали мощной "интервенцией" в центральные районы республики, стремясь занять руководящие посты, прежде всего, в хозяйственном секторе.
В 70-е годы Горно-Бадахшанская область лидировала среди других регионов Таджикской ССР по количеству населения, имеющего высшее образование. С началом в республике гражданской войны бадахшанские исмаилиты открыто поддержали Исламскую партию возрождения Таджикистана, составляющую до сих пор основной костяк Объединенной таджикской оппозиции. Более того, именно исмаилиты образуют подавляющее большинство и другой оппозиционной силы - Демократической партии Таджикистана.
Сегодня Горный Бадахшан стал полноправной вотчиной боевиков оппозиции и является главной перевалочной базой наркосырья из соседнего Афганистана. На сопредельной афганской территории также имеется исмаилитская община (около 900 тысяч человек), которая, однако, крайне неоднородна и разделяется на исмаилитов-хазарейцев и исмаилитов-бадахшанцев, находящихся в сложных отношениях друг с другом.
Хазарейцы проживают в основном в афганской провинции Баглан, и их община уже давно находится под контролем имамата исмаилитов. При шахском режиме хазарейцы играли весьма заметную политическую роль в стране. Однако после апрельской революции 1978 года многие религиозные лидеры афганских исмаилитов были подвергнуты репрессиям.
Когда в 1996 году власть в Кабуле перешла в руки талибов, хазарейцы перешли на сторону Антиталибского Альянса. В 1998 году талибы захватили административный центр провинции Баглан - Имам-Сахеб, убили большое количество мирных жителей-исмаилитов, разрушили их селения. Многие лидеры исмаилитской общины были вынуждены эмигрировать за границу. Сегодня хазарейцы пытаются вернуть себе былое влияние в стране.
Исмаилиты афганского Бадахшана ведут достаточно обособленный образ жизни и не контролируются имаматом. Община разделана на своеобразные уделы, которыми руководят наследственные пиры. Каждый пир в зависимости от количества дворов, входящих в его паству, имеет определенное количество халифов (заместителей), в задачу которых входит сбор "зяката" (десятины) и исполнение традиционных обрядов. В настоящее время исмаилитской общиной афганского Бадахшана руководят около десяти пиров.
По выращиванию опиумного мака и производству наркосырья Горный Бадахшан среди других афганских провинций остается неизменным лидером. Зачастую сами религиозные лидеры замешаны в производстве и распространении наркотиков, на что не раз обращал внимание имамат исмаилитов. Географические особенности местности позволяют беспрепятственно переправлять наркотики на сопредельную таджикскую территорию. Этот процесс был еще более облегчен после открытия переправы через пограничную с Таджикистаном реку для поставок гуманитарной помощи.
Зачем Ага Хану Бадахшан? Имамат исмалитов сегодня очень активно пытается вернуть бадахшанские общины под свое управление и тем самым закрепиться в Центральной Азии. В ходе недавнего турне Ага Хана IV по центральноазиатским странам были подписаны договоры с правительствами Казахстана, Киргизии и Таджикистана о развитии двусторонних отношений этих стран с имаматом и о создании Университета Центральной Азии. Интересно, что лидеры центральноазиатских государств с большой готовностью подписали эти документы. Видимо, обещанная финансовая помощь стала достаточным аргументом, чтобы они смогли побороть в себе традиционную неприязнь к исмаилитам.
Фонд Ага Хана разработал специальную "Программу поддержки развития горных регионов", имея в виду, прежде всего, помощь исмаилитской общине Горного Бадахшана. Эта программа включает в себя строительство оросительных каналов, освоение новых земель, предоставление кредитов под очень низкий процент, помощь малому бизнесу.
Предусмотрена и долгосрочная программа подготовки будущих кадров из числа исмаилитов. Уже сегодня Фонд оплачивает учебу исмаилитской молодежи в вузах России.
Возможно, что очень скоро имамат станет вполне влиятельной организации в Центральной Азии. А бадахшанская община всецело окажется под его управлением. Однако не исключено, что активные попытки Ага Хана закрепиться в Центральной Азии имеют под собой и иные основания. Возможно, что таким образом подготавливается необходимая база для создания в далеком будущем независимого исмаилитского государства.
Конечно, сегодня это кажется более чем утопичным проектом. Но когда-то именно лидеры исмаилитов принимали самое активное участие в процессе создания государства Пакистан.
Сегодня складывается особо благоприятная ситуация для изменения внешних границ как Афганистана, так и Пакистана, находящегося на грани нового революционного взрыва. Правда, Таджикистан в случае реализации этого сценария также вынужден будет отдать свою часть Горного Бадахшана. Но это территория давно является головной болью официального Душанбе. При этом Ага Хан IV при желании смог бы заинтересовать руководство Таджикистана долгосрочными экономическими программами.
Сегодня уже можно легко проследить, на реальных примерах из сообщений региональной прессы, как развивалось проникновение исмаилитов в Центральную Азию, в тот же, например, Таджикистан или Кыргызстан.
"Хороший человек много не думает, не путешествует. Он просто выбирает красивое место и сидит, созерцая природу. После смерти душа добродетельного человека отправляется в Космос, а плохого - переселяется в животное", - объясняет мулла Шакар Мамадер из города Ташкурган, расположенного на китайском Памире. Рассуждения мусульманского богослова могут показаться крамольными с точки зрения классического ислама. Но все объясняется тем, что мулла Шакар Мамадер принадлежит к исмаилитской секте.
"Мы больше обращаем внимание на суть учения, а не на обряды. Мы считаем, что достаточно молиться всего два раза в день, а не пять, как делают другие мусульмане. Нас также обвиняют в том, что мы не соблюдаем пост Рамадан. Что ж, каждый человек имеет право на свободу суждений, но на самом деле мы и есть настоящие правоверные мусульмане", - убеждает Мамадер.
В переписях населения народности Памира обычно называют таджиками. Однако два народа сильно не любят друг друга. "Памирцы никакие не мусульмане. Где это видано, чтобы правоверные молились дважды в день и употребляли алкоголь! Ни один из нас не выдаст свою дочку замуж за такого еретика", - не раз приходилось слышать от таджиков.
Внешний облик сел китайского и таджикского Памира практически неотличим. Так же, как и на таджикском Памире, дом китайских исмаилитов имеет четко выраженную, узаконенную религией планировку. В таком жилище нет окон в стенах, свет сюда проникает через узкую щель на крыше. Потолок дома обязательно подпирается пятью колоннами (священное число у исмаилитов).
Памирцы по обе стороны границы славятся своим гостеприимством. Путника обязательно пригласят в дом и угостят крепким чаем с молоком. Правда, традиционная пища у таджикских и китайских горцев различна: если таджикские едят в основном баранину, то китайские предпочитают яка. Существенные различия имеются и в религиозной жизни исмаилитов, живущих в Китае и Таджикистане. Как признался Мамадер, по китайским законам, школьникам запрещено посещение мечетей. Вынуждены скрывать свою религиозность и исмаилиты, работающие в государственных учреждениях. Пожалуй, главная причина столь жесткой религиозной политики Пекина - боязнь "экспорта чуждой идеологии из-за рубежа". Повод для такого беспокойства у китайских властей действительно есть. Духовный лидер исмаилитов, "наместник Бога на земле" Ага-хан IV проживает в Европе и считается одним из богатейших людей планеты. Он сегодня пытается объединить своих единоверцев в "единый духовный имамат". Лидер исмаилитов не только помогает им получить образование (он создал университет в столице таджикского Памира, городе Хороге), но и оказывает им весьма значительную финансовую поддержку.
Ага-хан дважды - в 1995 и 1998 годах - посещал Горно-Бадахшанскую автономную область на Памире. Благодаря соглашениям, достигнутым с руководством Таджикистана, в Горный Бадахшан потекла обильная гуманитарная помощь. Можно без доли преувеличения сказать, что ныне именно дотации Ага-хана составляют основу экономики таджикского Памира. Сегодня в Таджикистане шутят, что Горный Бадахшан превратился в "маленькую империю Ага-хана". Однако его попытки закрепиться и на китайском Памире потерпели неудачу. Китайские власти вежливо, но твердо заявили "наместнику Бога", что не нуждаются в гуманитарной помощи.
Справедливости ради стоит отметить, что в отличие от Душанбе Пекин действительно мог себе позволить это. Политика китайских властей: "развитые окраины - сильная страна" - приносит плоды. Перемены на китайском Памире действительно впечатляют. Так, если еще пять лет назад Ташкурган соединялся с внешним миром лишь грунтовой дорогой, то сегодня сюда проложено шоссе, отвечающее мировым стандартам. В самом городе повсюду можно увидеть добротные здания, построенные совсем недавно. Власти активно развивают на китайском Памире туризм. Сегодня в этом, еще недавно забытом богом уголке земли, можно увидеть туристов со всего мира. Единственные же иностранцы, удосуживающиеся посетить таджикский Памир, - это работники гуманитарных организаций и журналисты. Хотя китайские исмаилиты и боготворят Ага-хана, они все же вынуждены признать, что и без помощи "наместника Бога" уровень жизни на китайском Памире стал в последние годы существенно лучше.
Горный Бадахшан - автономная область Таджикистана, в которой проживает много исмаилитов - пережил гражданскую войну в республике во многом благодаря поддержке фонда Ага Хана.
В 1967 году был основан Фонд Ага Хана - крупная неправительственная организация, которая ныне сотрудничает более чем с 30 национальными и международными организациями, такими, как Британский совет, Комиссия европейских сообществ, Американское агентство по международному развитию. Фонд, штаб-квартира которого находится в Швейцарии, занимается вопросами развития здравоохранения, образования, сельского хозяйства, помогает в профессиональной подготовке молодых специалистов из развивающихся стран. А для Кыргызстана разработал мастер-план "Устойчивое развитие туризма в Иссык-Кульской области", презентация которого прошла в нынешнем мае.
Кроме того, Фонд экономического развития Ага Хана стал учредителем недавно открытого Кыргызского инвестиционно-кредитного банка, задача которого - содействовать развитию промышленности и предпринимательства в республике Кыргыстан.
Духовный глава исмаилитов Карим Ага Хан является 49-м наследным потомком пророка Мухаммеда через его двоюродного брата и зятя Али, первого имама, и дочь пророка Фатиму. Течение исмаилитов появилось в VIII веке как одно из ответвлений шиитского толка ислама. И давно уже представляет самостоятельное религиозно-философское течение.
В настоящее время исмаилиты проживают в 25 странах, преимущественно в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, а также на Западе. Как отмечают специалисты, исмаилизм в ХХ веке сделал ставку на гуманизм, интеграцию в мировое сообщество и общечеловеческую культуру. А сам Ага Хан IV в равной степени обращается к Корану и общечеловеческим ценностям.
"Его идеи - реальная альтернатива фундаментализму, указывающие самой молодой мировой религии путь в ХХI век, - пишет американский журналист и писатель Хью Поул. - Он человек, считающий тринадцать веков ислама лишь прелюдией к новой эпохе".
Ага Хан - сторонник диалога с христианскими конфессиями, основу которого он видит в "признании того, что люди всех вероисповеданий, в сущности, стремятся к одному и тому же".
Под флагом Ага Хана.
1995 год. Грешнов Андрей.
Поездка в столицу Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана - город Хорог - случилась летом 1995 года. По прилете в Душанбе мне показалось, что я нахожусь не в столице бывшей еще недавно союзной республики, а в Иране времен Хомейни.
Практически все мужское население Душанбе в возрасте до 30 лет отпустило бороды и ходило в черных рубахах, злобно поглядывая на безбородых, одетых в футболки иностранцев. Конечно, при желании можно было бы облачиться в черную рубаху без ворота, не бриться дней пять, и слиться в экстазе с местным населением, но температурные условия диктовали свое. Дикая жара не располагала к уважению произведений искусства местных кутюрье. Мало того, она так давила на мозги, что в голове постоянно возникали сумасбродные идеи. Одной из них стала моя странная идея пообедать на центральном базаре Душанбе в чайхане. Женская часть нашей группы - представителей американской некоммерческой организации World Learning - состояла из двух женщин - моей супруги Екатерины, прожившей три года в Афганистане, и маленькой запуганной американки непонятного происхождения, на которую исламистский вид аборигенов производил угнетающее впечатление. Она постоянно всего боялась. Том Келли, хотя по паспорту и числился американцем (в США не принято указывать национальность гражданина), на самом деле был выходцем из старого ирландского рода. Этим, пожалуй, сказано все. Том всегда выступал за "самое прогрессивное", поддерживая меня во всех авантюрах и выступая их активным участником.
Сказать, что местные "косились" на иностранцев - значит не сказать ничего. Мы постоянно ловили их откровенно злобные взгляды, не предвещавшие ничего хорошего. Однако советско-ирландская гремучая смесь не взрывалась от этих испепеляющих взглядов, оставаясь инертной.
Мы взгромоздились, сняв кроссовки, на матрасы в центре базарной чайханы и стали ждать нукера, поглядывая на улицу сквозь грязное запыленное окно со второго яруса "ресторана". На улице одетый в полосатый халат таджик, встав на лестницу-стремянку, помешивал веслом в огромном чане плов, источающий все ароматы Востока. "Не понимавший" ни по-английски, ни по-русски "официант" как-то вдруг очень резво забегал с тарелками, услышав настоятельную просьбу "не тупить" на языке дари. Сам, без напоминаний, принес приличествующий обильной трапезе зеленый чай в чайнике, четыре пиалы и свежевыпеченные лепешки. Язык жителей другого берега Пянджа, несколько отличавшийся от языка аборигенов, открывал здесь большие перспективы остаться невредимым. Поели спокойно и размеренно, пошли гулять по базару, хотя и были предупреждены о возможных провокациях. Афганский "дари" делал свое дело - "ничего не понимающие по-русски" торговцы, услышав "родную речь", щедро отсыпали в бумажные кульки зиру - лучший и незаменимый ингредиент к плову, красный ароматный перец, давая при этом щедрый бахшиш, завязывали разговоры, пытаясь узнать кто мы и что здесь делаем. Для них все мы были американцами. Это их успокаивало, и они отходили удовлетворенные. За полчаса, проведенных на базаре, стало очевидно, что здесь русских "кафиров" не жалуют вовсе, а к американцам относятся терпимо.
Зашли в местный банк поменять денег. Это была мучительная процедура. Ограничение по сумме обмена для всех было 100 долларов, ни центом больше. Но за номера в гостинице "Октябрьская", где мы проживали, выгоднее было платить в местной валюте, так как там обменный курс был просто грабительским и несколько напоминал советский - 60 копеек за один доллар. В обмене нам помогли сотрудники международного Фонда Ага Хана, представительство которого находилось в Душанбе. Они же предложили нам безвозмездно использовать их представительский "Рэйндж-Ровер", чтобы добраться до Хорога.
Боязливая американка сначала напрочь отказывалась совершать путешествие по земле, предлагая ждать самолета. Ей доходчиво объяснили, что самолета до Хорога здесь можно ждать месяц - и из-за погодных условий, и из-за того, что все билеты давно раскуплены как местными, так и российскими военными и членами их семей. Мне пришлось рассказать ей о "Стингерах" и о том, что маленький самолет, рассчитанный на несколько десятков человек, во время полета несколько раз пролетает над афганской территорией. Том был тоже не против прокатиться по горной трассе, тем более что я обещал ему массу новых интереснейших впечатлений. Самому же очень хотелось посмотреть на афганский берег, которого я не видел уже долгих шесть лет - с того самого момента, как побывал в командировке в Мазари-Шарифе и катался под строгим секретом с пограничниками на советский берег за пивом на катере "Хамза".
В представительстве Фонда Ага Хана нам порекомендовали водителя Курбана, родом из Хорога, - молчаливого высокого худого парня, который с первых минут знакомства и до отправления в дорогу произнес всего одну фразу: "С бензином будут проблемы".
Когда мы стартовали из Душанбе в сторону горного перевала, отделяющего равнину от Горного Бадахшана, поняли, что с бензином не просто плохо, а вообще никак. Топлива не было нигде. Меня несколько удивил тот факт, что Курбан, несмотря на это, не унывал, а топил педаль газа в пол. На всякий случай мы предложили водителю денег на тот случай, если в пути все же удастся где-нибудь перехватить бензина. Он не отказался и взял предложенные ему 50 долларов. Когда выехали из города, я от нечего делать начал вслух читать таджикские надписи, исполненные кириллицей, и тут же их переводить. Первой надписью на стрелке, указывающей в сторону от дороги, была "аджор". На дари и фарси это означает одно и то же - кирпич. Об этом я и поведал водителю, стремясь его разговорить. Через десять минут мы уже лопотали на непонятном другим пассажирам наречии - смеси всех языков, основу которых составляет фарси. Курбан рассказал, что население Горного Балахшана очень не любит равнинных таджиков, особенно "выскочек" из Ленинабадской области. "Ленинабадские", по его словам, хотя и не блещут умом и не сильно богатые, имеют самый сильный клан в Таджикистане. Отсюда проистекает то, что все номенклатурные должности в республике принадлежат им. А при Советском Союзе они занимали еще и почти все партийные должности. Я поинтересовался, почему представителей Горного Бадахшана нет ни в правительстве, ни в парламенте.
- Мы для них шибко умные. На выборах голосуем всегда против центральной власти.
- Почему так?
- Более 85 процентов жителей Хорога и 65 процентов жителей Горно-Бадахшанской автономной области имеют высшее образование. Управлять умными людьми очень сложно. К тому же по вере бадахшанцы - исмаилиты, то есть опять же сектанты. Вот они и пасут свое стадо на равнине.
- Отчего люди в Бадахшане столь образованны?
- О, это очень длинная история, но постараюсь изложить ее кратко. Мы стали такими благодаря русским. Еще в самом конце XIIX века, когда была определена русско-афганская граница, в горном Хороге, тогда еще незаметном кишлаке, занимавшем очень выгодное торговое и военное положение между Россией, Афганистаном и Китаем, русские солдаты построили пограничный форпост. Недалеко от Хорога над кишлаком Богев они создали защитный редут - крепость. Она и по сей день стоит. Носит название "крепость кафиров". В других кишлаках и селах Шугнана (район между реками Шахдара и Гунт) русские не стояли. А у нас они сразу построили школу для местного населения и больницу, чтобы народ лояльно к ним относился и помогал. С тем самых пор и до сегодняшнего дня хорогцы более других пользуются плодами русской культуры и цивилизации. Население горных районов очень любит русских. Приедем - сам убедишься.
Время текло незаметно, колеса машины быстро глотали песок и камни дороги, но ехать было еще очень и очень долго. От Душанбе до Хорога почти 550 километров пути, причем финишная часть трассы очень сложная, идет по берегу Пянджа - валунам и камням, иногда дорога зависает над обрывами и пропастями. Ехать довольно опасно. Впрочем, летать еще опаснее.
На подъезде к перевалу сбавили ход - по серпантину шла колонна российских (еще совсем недавно советских) войск. Ждать, пока она выйдет с серпантина, можно было несколько часов - БТРы и БМП шли медленно, стараясь не слететь в пропасть. Мы пошли им навстречу. Ветер раздувал прикрепленное к кабине нашей машины большое зеленое знамя ислама, на котором с одной стороны по-английски было начертано Аga-Khan Foundation, на другой - то же самое, но арабской вязью, с традиционной припиской в правом верхнем углу - "Аллах Акбар!".
Российские воины недружелюбно косились на "душманский" Рэйндж-Ровер, но, увидев, что там сидят европейцы, притормаживали, пропуская нас в объезд боевых машин. Колонну миновали нормально, начался долгий и трудный подъем вверх. На самой верхней точке перевала у нас прокололось колесо. Прокололось прямо на леднике. Хотя мы были в майках, убирая с дороги осыпавшийся с ледника на дорогу снег, холода не ощущали. Было лишь слегка зябко. Выйдя из машины, все просто остолбенели от неземной красоты этого места. Мы стояли выше облаков. Кругом возвышались горные вершины. Воздух был прозрачен и насыщен кислородом, несмотря на то, что мы находились выше, чем три тысячи метров над уровнем моря. В тот момент, помнится, мне подумалось, насколько ничтожна человеческая жизнь с ее желаниями, победами и поражениями перед этой божественной вечностью. Пылинка? Нет, просто атом в реке Времени.
Ледник отступил от трассы только совсем недавно. Курбан сказал, что еще два дня назад здесь было не проехать. Поменяв пробитое колесо и залив из канистр резервное топливо, мы двинулись дальше. Пошел спуск в равнину, и на дороге стало веселей. Попадались маленькие кишлаки, в одном из которых мы сделали остановку. Небольшое селение, дувалов на десять. Встречать нас высыпало все местное население - от стариков до женщин с незакрытыми лицами и детей. Курбан отдал местным привезенные из Душанбе продукты - мясо, овощи - всего один большой мешок, объяснил, кто мы такие. При слове "русские" лицо встречавшего нас старейшины напряглось. Но, услышав речь другого берега Пянджа из уст русского, он сразу успокоился и принял нас как своих. Пока мы стояли и объяснялись с людьми, подростки откатывали колесо от джипа в кустарную мастерскую, и через 20 минут выкатили его отремонтированным. Другая группа детей по команде старшего уже тащила три полные канистры бензина, которого во всем Таджикистане было не отыскать. Курбан отдал им пустые.
- Это наши люди. Душанбе хотел заморить их голодом и похоронить навсегда, но не вышло.
- ???
- Пусть тебе старейшина расскажет...
Старейшина был не похож на старика. Это был красивый задумчивый человек лет 30-40, очень образованный и начитанный. Начав с русского, мы сразу перешли на фарси - так было легче понимать друг друга. Вот тут-то мы и узнали, что происходило в Таджикистане два месяца назад и продолжается по сей день.
Во время исламистских выступлений горцы поддержали сепаратистов и впали в немилость у центральной власти. Их отношение к русским пограничникам - двоякое. С одной стороны, как-никак стража границы, защита от набегов душманских банд из Афганистана. С другой стороны, русские, противники исламских сепаратистов, блокировали район Горного Бадахшана. Это, вкупе с селями и сошедшими на перевал лавинами, привело к тому, что Бадахшан оказался на три месяца полностью отрезанным от мира. В Хороге, горных аулах и деревнях начался голод. Не просто голод, когда в холодильнике особо нечего покушать, а голод такой, что дети ели траву и умирали со вспухшими животами. Родители умирали от голода и горя от потери детей. Центральные власти, прекрасно зная о сложившейся ситуации, не прислали в зону бедствия ни одного зернышка. Пытавшихся переправиться на афганский берег бадахшанцев, отлавливали пограничники. Ситуация была критическая, грозившая вымиранием всему населению автономной области. Перебивались кто как мог - ели кожаную обувь, кору деревьев, цветы. Ситуацию спас вождь и наследный принц исмаилитов Ага-хан 4-й. Узнав о творящемся в Таджикистане геноциде, он думал недолго. Немедленно по его команде в город Ош была выслана команда международного фонда, в задачу которой входила исключительно переброска продовольствия голодающим. Ош - это уже не "зона ответственности" Душанбе, это Киргизия. Киргизы оказались более лояльными к исмаилитам, с которыми всегда жили в добрососедстве, так как через территорию их проживания веками проходил торговый караванный путь в Китай и Афганистан, который исмаилиты охраняли и защищали. Сам принц Ага-Хан вылетел из Парижа в зону бедствия. С собой он привез, по рассказам местных жителей, мешки с деньгами - два миллиона долларов наличными, лично организовал закупки продовольствия и контроль за его немедленной отправкой по воздуху и по земле в Хорог. Официальный Душанбе скрежетал зубами, но ничего не мог в этой ситуации поделать. За Ага-Ханом кроме могущественной секты исмаилитов стояло и все европейское сообщество. Люди были спасены. То, что от России никакой помощи не последовало, удивило и одновременно огорчило бадахшанцев. Они не знали, какой бардак творился в ельцинское время в России. Оторванные от внешнего мира, они наивно продолжали верить, что Советский Союз восстановится, что все произошедшее с СССР - ошибка, которую исправят очень скоро и что русские братья придут к ним на помощь.
В следующем по пути населенном пункте нас уже встречали как дорогих гостей. Весть о появлении на трассе машины под флагом Ага-Хана долетела туда быстрее, чем доехал сам автомобиль. Жители извинялись, что им нечем нас угостить - еды было в обрез. Зато поили вкусным чаем на травах. Мы, чтобы показать, как высоко ценим их гостеприимство, посетили местную школу, над которой развевался красный советский флаг.
Когда мы вошли в школьный холл, я остолбенел. Под красным знаменем с черной ленточкой висела мемориальная доска с портретами и жизнеописанием всех советских солдат, призванных из этого населенного пункта в армию и погибших в Афганистане. Здесь были люди разных национальностей. И все советские. Жизнь остановилась в этой потерянной в горах школе на 80-х, и просто не хотела двигаться вперед. Мы долго и с горечью говорили с директором об этой памятной доске, о советских солдатах, а потом смотрели на горы, отделяющие деревню от афганского Файзабада. Еще недавно мы были вместе. Люди разных культур, вероисповеданий и традиций. У нас была своя ни с чем не сравнимая, пусть горькая, но история, и она была общей. Еще вчера мы отстаивали интересы своего государства там, за двести метров от школы, по ту сторону Пянджа, но отстаивая их, как-то не заметили, что горстка безоружных космополитов без всякой войны откинула нас на много веков назад, растоптав нашу историю, нашу память, наше государство.
Окружившие нас люди стояли, слушали, молчали. Спустя некоторое время нас провели в школьный класс, где на стене висела карта СССР. На столах лежали подарки детей и взрослых принцу Ага-Хану.
- Мы ждали, что Ага-Хан приедет к нам. Простые люди несли из домов все, что у них было.
Директор школы повел нас вдоль рядов.
На столах лежали местной выделки шерстяные кофты и носки, варежки, тюбетейки, музыкальные инструменты, бронзовые кованые казаны, деревянные поделки. Каждому было предложено выбрать себе подарок. Робкие попытки отказаться были приняты в штыки. Я выбрал себе скромную красную с вышивкой тюбетейку. Но когда мы стали уходить, людям показалось, что я чересчур скромен. И мне торжественно был вручен восточный щипковый музыкальный инструмент, похожий на домру. И хотя на нем было пять струн, я ошибся и назвал его дутаром. Директор улыбнулся и сказал: " Вы же переводчик. На языке дари слово "ду" означает два, слово "тар" - струну, веревку. А здесь струн то пять!". - "Ну, тогда я получил два с половиной дутара!". Мы рассмеялись и тепло попрощались. Нам нужно было ехать дальше.
На подъезде к российским погранзаставам водитель попросил меня пересесть на переднее сиденье, а американцев помолчать. Курбан объяснил, что в случае чего я должен объясняться с погранцами по-русски, да к тому же, по его словам, иногда российские солдаты бывают слегка не в себе: в район с того берега поступает слишком много легких наркотиков.
По "нашему" берегу Пянджа тянулись вечно одинаковые картины прошедшей войны: горелая бронетехника, воронки, обгорелый деревянный мост на афганскую сторону, окопы, ячейки, землянки. На оборудованном из камней КПП - шлагбауме русский парень-пограничник в панаме, засунув голову в окно джипа, спросил: "Кто такие?". Услышав мой внятный ответ и поглядев на советский паспорт, потерял к нам всякий интерес и попросил покурить. Я отдал ему почти полную пачку "Мальборо", он поднял шлагбаум, и мы покатили дальше. Больше нас по пути до самого Хорога никто не останавливал.
Курбан нервничал - темнело, а нам предстояло проехать самый сложный участок дороги. В некоторых местах до афганского берега можно было при желании доплюнуть. По пути навстречу нам два раза попадались одинокие УАЗики - это были местные, знакомые нашего водителя.
Прибыли в Хорог поздно ночью. Разместились в маленькой охраняемой вооруженными людьми гостинице, в полуподвальном этаже. Комнаты уютные, идеальная чистота, свежее белье. Дико хотелось есть, но говорить об этом полуголодным хорогцам мы не стали. Однако через пять минут пришел человек и сказал, что нам приготовлена еда и стоит она на кухне.
Кто не знал, что такое голод, вряд ли оценит этот ужин. В большом казане лежал огромный кусок отварной говядины в крепчайшем бульоне, приправленном морковью. На тарелке несколько огромных помидоров и свежие лепешки в пакете.
Голодные жители Памира отдали нам эту царскую еду!!! Они оторвали это от сердца, отобрали у своих детей и отдали нам как друзьям, прибывшим к ним в гости под флагом Ага-Хана. Это пожертвование я запомнил на всю жизнь. Оно было сделано от чистого сердца в крайне трудный для них момент времени. Это ценно втройне.
В Хороге мы провели два полных дня, из которых больше всего запомнились поездка в ущелье, где когда-то работали советские геологи, а также посещение Памирского ботанического сада.
Ущелье неописуемо красиво. Райское место для жизни, если при этом иметь еду и воду. Местные жители рассказывали о геологических партиях и о том, что до сих пор ждут возвращения русских, которые разведывали здесь уран, а наткнулись на залежи жильного золота. По их словам, золота разведали очень много. Помимо золота, тут разрабатывались в открытом виде выходящие на поверхность пласты ляпис-лазури, по- русски - лазурита, других ценных самоцветов. Местное население относилось к русским геологам просто восторженно. Помимо чисто дружеских отношений с геологами, местные жители рассчитывали на создание многих сотен рабочих мест, если здесь заработают рудники. Население Хорога - чуть больше 20 тысяч человек. Это действительно могло бы стать для жителей Горного Бадахшана отличным подспорьем, источником заработка. Недалеко от поселка Поршнев местные умельцы делали классные поделки из самоцветов, мы заехали туда позже, посмотрели, кое-что приобрели. Цены - чисто условные, работа - диво дивное. Афганцам с их бусами спать.
По ходу движения я отмечал для себя, что население здесь совсем не приспособлено к ведению сельского хозяйства. На некоторых полях, правда, росли брюква, свекла и какие-то странные невиданные корнеплоды. Но они напоминали скорее заброшенные совхозные участки, и мотыжили на них только женщины. Эти женщины внешне похожи на афганских пуштунок, таджикского и дари не понимают, говорят на разных языках и наречиях. Их и местные не все понимают. Это памирские языки, относящиеся к иранской ветви индоевропейской семьи языков: ваханский, язгулямский, ишкашимский, мунджанский. Еще часть выходцев из Китая говорит на уйгурском. На всей этой экзотике говорит всего несколько десятков тысяч человек! Языки не имеют друг с другом ничего общего и не подразумевают никакой письменности. То есть, если на одном из этих языков говорят пять тысяч человек, больше их никто не понимает, и они никого не понимают. Носители этих языков живут в своем маленьком замкнутом мире, куда не может проникнуть никто.
Сельским хозяйством эти народности не занимались и не занимаются традиционно, у них отсутствует культура земледелия как таковая. Стоя на возделываемых женщинами делянках с брюквой, я сравнивал эту безрадостную сельскохозяйственную разруху с другим берегом Пянджа. Вот где сельское хозяйство просто кипит! Афганский берег напоминает лоскутное одеяло из всходов злаковых культур, гороха, фасоли, овощей. Афганские огороды тянутся по берегу до самой воды. По берегу ходят "духи" и радостно отвечают на крики "Салям алейкум", "четурасти-хубасти". Не стреляют, улыбаются.
Я постарался привить местным жителям навыки высадки в землю картофеля, однако они не проявили к этому клубню ни малейшего интереса. "Мы никогда не сажали здесь картошку, и деды и прадеды не сажали. Они знали, что делали. Значит, и мы не будем" - таков был их простой и незатейливый ответ. Возник резонный вопрос: чем они здесь живут и как зарабатывают на хлеб? Вывод получился однозначный: исмаилиты занимаются науками, медициной, литературой, живописью, резьбой по камню. Немудрено - более половины с высшим образованием. Значит, они свято чтут традиции предков, не желая трансформироваться. С одной стороны, в современных условиях это опасно, и голод в Горном Бадахшане это ярко высветил. С другой - они занимались этим веками и не вымерли. Значит, в этом тоже что-то есть. Традиции и вековой жизненный уклад - история народа. Не имеющий или забывший собственную историю - не имеет будущего. Не забывший - имеет.
В свое время в Афганистане я очень интересовался этой сектой, но каждый раз, задавая таджику или хазарейцу достаточно прямые вопросы, получал очень уклончивые ответы. При слове "исмаилит" глаза афганцев становились настороженными, а их ответы - краткими и односложными. Для себя в то время на чисто подсознательном, можно сказать, интуитивном уровне я сделал вывод - секта исмаилитов составляет некий мусульманский противовес обществу каменщиков. В мире не могут существовать только могущественные масоны. Мир силен разнообразием. И, видимо, я нащупал один из древних и сохранившихся до наших дней элементов такого разнообразия - секту исмаилитов. Они всегда помогут друг другу, кто бы они ни были и где бы ни находились. Даже, если принадлежат к явным противоборствующим течениям (например: режим НДПА и моджахеды). Афганский Бадахшан, кстати, во время войны очень редко оставался без продовольствия и финансовой помощи.
В оставшийся свободный день мы гуляли по городу в сопровождении неожиданно оказавшегося в Хороге американского "советника по делам Ботанического сада". Именно так звучало его официальное наименование. Было вполне очевидно, что "садовник" несколькими годами ранее выращивал цветы в районе реки Потомак: он слишком хорошо знал маршрут и тропинки лесного массива и слишком профессионально сыпал латинскими названиями растений, произраставших в этом самом высокогорном в мире ботаническом саду. Рассказывал о растениях и папоротниках он почему-то преимущественно мне. Я ему отвечал рассказами о флоре и фауне Афганистана. В голове шевелилась мысль: если местные среднего возраста и старики так хорошо относятся к русским, то с кем же работает этот советник? Наверняка с молодняком. Я не ошибся. Вечером мы всей группой побывали у него в гостях на квартире, которую он арендовал в Хороге. В гости к нему зашли два молодых человека с бородками, принесшие пакет с бумагами. Он объяснил, что это - местные художники, делающие зарисовки в ботаническом саду. Потом "ботаник" предложил нам выпить, причем всем - виски и сухое вино, а мне чистый спирт. Он объяснил это тем, что русский, наверное, хочет чего-то покрепче. Почему-то сразу вспомнилось старое советское кино про фашистов и лагерь для военнопленных. Спирту не хотелось, но американец твердой рукой уже накатывал мне в стакан "навадо шаш". Чтобы это выпить, пришлось вспомнить Джелалабад, наших вертолетчиков и их "Массандру". Я проглотил стакан и долго закусывал советской тушенкой - горло перехватило, и я боялся закашляться. От второго захода я вежливо отказался и пил только чай.
Ночью гуляли по Хорогу: вполне спокойно. Один только раз пара молодых людей увязалась сзади, но мы вежливо попросили у них спички на персидском языке. Они дематериализовались очень быстро.
Что жители Горного Бадахшана действительно культурные люди, я убедился на следующий день. Пока сотрудники World Learning занимались работой, я съездил с водителем к Майданшахру, где расположен священный целительный источник "Пир Шанасир Чашма", созданный здесь в память о посещении этого места известным иранским просветителем, мыслителем и философом Среднего Востока Насиром Хосровом. Здесь же ему установлен памятник. Взяв бесхозную пиалу, я выпил три порции подряд - вода была сказочно чистая, сладковатая и прозрачная. Подошла группа благообразных седых стариков, говорившая на почти чистом персидском языке. Мы беседовали с полчаса о традициях памирцев и таджиков, других восточных народов. Люди очень дружелюбные и начитанные. Читали стихи Хайяма. Я ответил стихами Фирдоуси. Они цокали языками и понимающе кивали. В заключение сказали, что культуры русского народа и народов востока связаны вековыми корнями, и что им очень бы не хотелось, чтобы кто-то разорвал эти узы вековой дружбы.
Улетали все-таки на самолете. Американка наотрез отказалась ехать назад на машине. С нее впечатлений и потаенных опасностей на трассе, по ее собственным словам, хватило. Наивная. Как она заблуждалась! В маленьком Яке, где пассажиры сидели вперемешку с козами и курами, а проход был завален тюками, она дрожала от страха, когда трясущаяся машина то и дело залетала на афганскую территорию, а я рассказывал ей успокоительные байки о героических советских летчиках, воевавших в Афганистане.
Случилось все это давным-давно, более десяти лет назад. Но я хорошо запомнил Памир и его добрых и гостеприимных жителей - исмаилитов: живые цветные картинки прошлого не выходят из головы. Жалко, что прошлого, и что его не воротишь. Но главное, чтобы оно было, это прошлое. У кого оно было, у того будет и будущее...
Человек, считающий тринадцать веков ислама лишь прелюдией к новой эпохе
На западном берегу Нила видна уютная вилла, которая называется Нур-эль-Салам. От нее вверх ведет дорога, которая заканчивается у мавзолея Ага-хана.
Здесь покоится прах скончавшегося в 1957 году знаменитого Ага-Хана III Султан Мухаммад-шаха, 48-ого наследного духовного главы исмаилитов, носившего титул Ага-хана. Его погребение в 1959 году стало для Асуана событием международного значения.
Мавзолей Ага-хана - прекрасный образец современного исламского искусства, источником вдохновения которого были гробницы Фатимидов в Каире. В мавзолее с перекрытым куполом внутренним помещением и открытой лестницей из асуанского гранита установлен белый, украшенный изречениями из Корана мраморный саркофаг. У изголовья - изящная вазочка с единственной розой. Розу меняют каждое утро.
Чтобы посетить мавзолей, построенный на высоком западном берегу Нила, надо переплыть реку на парусной лодке-фелюге.
Ага-Хан ("почетный вождь"), с начала 19 века наследственный титул духовного главы религиозной секты исмаилитов, ветви шиитского направления в исламе. Персидский шах Фетх-Али-шах (годы правления 1797-1834) пожаловал этот титул своему зятю Хасану Али-шаху, считавшемуся потомком пророка Мухаммеда по линии его дочери Фатимы. Супруга Ага-хана носит титул "бегум Ага-хан". Бегум обозначает мусульманку соответствующего ранга.
Ага-хан I (Хасан Али-шах) (1800-1881) был генерал-губернатором южноперсидской провинции Керман, зять Фетх-али-шаха. В результате дворцовых интриг вступил в конфликт со следующим правителем Мохаммед-шахом (годы правления 1834-1848).
В 1840 году, после неудачной попытки силой захватить трон бежал в Бомбей. Оказал англичанам неоценимые услуги во время их кампаний в Афганистане и Синде. Получил вознаграждение и разрешение поселиться в Бомбее (где проживала крупная община исмаилитов, известная как "ходжа", или низариты).
В 1866 Высший суд Бомбея подтвердил титул Ага-хана и его верховенство над всеми исмаилитами. Ага-хан продолжал служить англичанам, помогая подавлять выступления приграничных племен против английского господства и оказывая огромное влияние на единоверцев в Индии и по всему Востоку. Получил от английского правительства право титуловаться "Его высочество" и вплоть до своей смерти в 1881 выполнял священнические обязанности.
Ага-хан II (Али-шах) (умер в 1885 году), занял место отца в 1881 году, но через четыре года умер. Оставался верным отцовской вере и, следуя примеру отца, укреплял связи с англичанами, согласившись войти в законодательный совет Бомбея.
Его запомнили как искусного охотника и великого знатока персидской литературы. Женой Ага-хана II, матерью Ага-хана III, была сестра последнего абсолютного монарха Персии Наср-эд-дин-шаха (годы правления 1848-1896).
Ага-хан III (Ага Султан cэр Мухаммед-шах) (1877-1957), родился в Карачи (Индия, ныне Пакистан) 2 ноября 1877 года. Через восемь лет после смерти отца стал 48-м имамом, религиозным главой исмаилитов.
Английское образование, а позже общение с крупными политическими фигурами, включая королеву Викторию, усилили традиционный пробританский настрой его семьи. Большое внимание уделялось его воспитанию в духе ислама. Сочетание двух культур подготовило его к выполнению обязанностей священнослужителя и общественного деятеля.
В 1906 он стал одним из основателей и первым президентом индийской Мусульманской лиги, которая позже сыграла важную роль в создании независимого государства Пакистан. Ага-хан III оказал значительную помощь союзникам в годы Первой мировой войны, много сил отдал работе в Лиге наций. Трижды назначался главным представителем Индии, в 1937 году был председателем Ассамблеи Лиги. Всю свою жизнь он боролся за независимость Индии, отстаивал также национальные интересы Пакистана.
Иностранцы не понимали смысла знаменитых церемоний, во время которых собственный вес Ага-хана уравновешивался золотом (1936), алмазами (1946) и платиной (1954). Их суть состояла в том, что Ага-хан исполнял древний индийский религиозный ритуал, отмечая основные годовщины своего имамата. Собранные во время этих церемоний деньги он вкладывал в кооперативные предприятия, кредитные фонды и другие организации, помощью которых могли воспользоваться все исмаилиты.
Проживая главным образом в Европе, Ага-хан III считал, что тем самым избегает предпочтения какой-то одной группе исмаилитов. Женился он четыре раза, первой женой была его двоюродная сестра, второй итальянка, третья и четвертая - француженки.
В 1954 году опубликовал свои мемуары. В 1956 году учредил должность профессора иранистики в Гарвардском университете. Умер Ага-хан III в Женеве 11 июля 1957.
Свои политические взгляды Ага-хан III изложил в книге "Индия в переходный период" (India in Transition, 1918), где в ряде аспектов предвосхитил концепцию британского Содружества наций. Возможно, наилучшее представление об образе мыслей Ага-хана III дает его решение выбрать преемником не одного из двух своих сыновей, а внука - принца Карима.
Принц Али-хан, старший сын Ага-хана III и отец принца Карима, был известен в международных кругах, а также женитьбой на американской актрисе Рите Хейворт. Принц Али был представителем Пакистана в ООН с 1958 по 1960 годы. Ага-хан назначил принца Карима своим преемником еще при жизни принца Али.
Ага-хан IV (принц Карим аль-Хусейни-шах), старший сын принца Али-хана, родился 13 декабря 1936 в Женеве. Стал 49-м имамом исмаилитов. Учился в Гарвардском университете, где специализировался по истории Востока. После официального вступления в должность, церемония которого была проведена в Дар-эс-Саламе (Танганьика), и серии поездок для знакомства со своими единоверцами возобновил учебу в Гарварде (1958).
Окончив университет в 1959 году, Ага-хан учредил на десять лет стипендию для африканских студентов в Гарварде. В 1979 году учредил программу занятий по исламской архитектуре в Гарвардском университете и Массачусетском технологическом институте.
Нынешний прямой потомок последнего Старца горы - принц Ага-хан IV, в 1957 году принял главенство над исмаилитами. Князь Садретдин Ага хан стал 49-м имамом исмаилитов. Забавно: глава некогда грозной секты известен в мире как миллиардер-меценат и борец за экологию - он один из основателей Всемирного фонда дикой природы. Помимо того, князь работал в ООН, а в 1967-1977 годах и вовсе стал в ней Верховным комиссаром по делам беженцев. После вывода советских войск Садретдин координировал гуманитарную и экономическую помощь Афганистану. В 1991 году Британия даже выдвигала Садретдина на должность Генерального секретаря ООН (кстати, его дед в своё время год председательствовал в Лиге Наций). Но кандидатура не прошла - репутация не безупречна. Кто-то обвиняет Садретдина в том, что под прикрытием программы ООН он торговал оружием и наркотиками. Но уж в чём нельзя обвинить имама-миллиардера, так это в желании возродить "государство всеобщего равенства".
Карим Ага Хан IV родился в Женеве. Раннее детство провел в Найроби (Кения), затем в течение девяти лет учился в Швейцарии. А в 1959 году с отличием окончил Гарвардский университет по специальности "история ислама".
Поколения семьи Ага Хана следовали традиции активного участия в международных делах. С 1957 года, когда Ага Хан IV стал выполнять функции имама, в большинстве государств, где проживают исмаилиты, произошли крупные политические и экономические перемены. Ага Хан адаптировал сложную систему управления общиной исмаилитов, основы которой были заложены еще в колониальную эпоху, к условиям мирового сообщества наций.
Вот уже более трех десятилетий он отдает силы благотворительности. Основанная им группа институтов, ныне известная как Организация Ага Хана по развитию, ежегодно расходует около 100 миллионов долларов на реализуемые в различных странах некоммерческие проекты, как уже говорилось, в образовательной, здравоохранительной, сельскохозяйственной сферах: "Человековедение", "Аграрная реформа и продовольственная безопасность", "Школы Ага Хана" и др.
Хорошо знают имя этого человека и в Кыргызстане. Так, ОшГУ стал первым в СНГ вузом, включенным в программу Международного фонда по образованию, учрежденного Ага Ханом.
В апреле 2001 года сотрудники его фонда побывали в Ошской области и сообщили о намерении своего руководителя выделить 50 тысяч долларов на строительство школы в южной столице Кыргызстана. Ага Хан также пригласил ошского губернатора Накена Касиева посетить Пакистан для ознакомления с проектом "Преодоление бедности", осуществляемым в этой стране. Кроме того, как заявили представители фонда Ага Хана, предусматривается организовать структуру по выдаче микрокредитов фермерам Алайского и Чон-Алайского районов.
Большую разностороннюю помощь Ага Хан и его фонд оказывают Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, большую часть населения которой составляют исмаилиты. Тысячи тонн гуманитарной помощи доставил сюда через Ош филиал фонда, действующий в Хороге.
После смерти Султана Мохаммеда его преемник Ага Хан IV получил от британской королевы титул "его Высочества" и поддержку на международной арене. В 1991 году он был главным конкурентом Бутроса Гали на пост Генсека ООН. Координируя гуманитарные и экономические программы ООН по Афганистану, Ага Хан IV занимался не только проблемами беженцев, но и был связан с моджахедами, базировавшимися в лагерях беженцев ООН на афганско-пакистанской границе.
Ага Хан подчеркнул, что видит самой главной задачей для Афганистана подъем сельского хозяйства. Его долговременные проекты призваны помогать людям в сельской местности восстанавливать инфраструктуру, строить дороги, ирригационные сооружения, школы и больницы.
Программы Ага Хана охватят 500 тысяч человек в провинциях Бамиан, Баглан и Бадахшан, а затем будут распространены на Тахар, Кундуз и Капису. Специальная программа фонда будет содействовать работе педагогических институтов в Кабуле и других городах.
Скотт Томпсон и Джозеф Бренд опубликовали в США, 12 лет назад, досье на Ага Хана, являющееся лишь частью более крупного обзора о связи спецслужб, наркоторговли и международного терроризма.
Князь Садретдин Ага Хан IV, второй сын наследного имама шиитской секты исмаилитов (известной также под названием "ассасинов"), - специалист по проведению спецопераций под гуманитарным прикрытием.
Карьерный ООНовский бюрократ, бывший координатор гуманитарных и экономических программ ООН по Афганистану, князь Садретдин был тесно связан с обеспечением зоны безопасности для афганских моджахедов и их расселением по всему миру. Именно эта особая роль сделала его главным кандидатом британского правительства на роль Генсека ООН в 1991 году, причем даже более предпочтительным, чем Бутрос Гали, британский агент в третьем поколении.
Династия имамов секты исмаилитов ведет свое происхождение от пророка Мухаммеда. Исторически секта ассасинов (убийц) базировалась в Иране, где династия находилась до 1840-х, пока не перебралась в Индию. Там члены этого семейства поступили на британскую военную службу, участвовали в афганских кампаниях. Дед князя Садретдина, Ага Хан II, был основателем Мусульманской лиги, получившей британскую поддержку после восстания сипаев 1858 года; в конечном счете, действия Мусульманской лиги привели к резне 1947 года (несколько миллионов убитых с обеих сторон), когда в ходе получения независимости Британская Индия распалась на Индию и Пакистан. Его отец, Сэр Султан Мохаммед Шах Ага Хан III, в течение своего семидесятидвухлетнего правления был весьма близок к Британскому королевскому семейству и в течение года занимал пост председателя Лиги наций. Сорок девятый имам исмаилитов, князь Ага Хан IV, после смерти его деда в 1957 году, получил от британской королевы Елизаветы II титул "его Высочества".
Карьера князя Садретдина началась в пятидесятых, когда он стал издателем "Paris Review", участвуя в крупнейшем англо-американском спецпроекте того времени - рекламе дегенеративных "детей солнца" - хиппи, предшественников рок-нарко-секс контркультуры (естественная роль для потомственного главы секты наркоманов-террористов). Главный редактор издания, Джон Трейн, был соседом Садретдина по комнате в Гарварде. Позже, став одним из влиятельных финансовых советников Уолл-стрит, Трейн продолжал играть ключевую закулисную роль во многих спецоперациях, включая Афганистан. В течение десятилетий Трейн и Садретдин продолжали работать в связке.
В середине 50-х князь Садретдин стал карьерным служащим ООН. С 1962 он был представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а в 1967-77 годах - Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. После этого он продолжал выполнять особые поручения, связанные с массовыми перемещениями населения, особенно в зонах военных действий. Таким образом он стал координатором проекта ООН по оказанию гуманитарной и экономической помощи Афганистану, известного под кодовым названием "Операция Салам".
Официальной целью "Операции Салам" была репатриация афганских беженцев после вывода советских войск. Но под этим предлогом проводилось расселение афганских беженцев и ветеранов войны по всему миру - которое началось еще до окончания войны. Фактически, программа ООН стала прикрытием для обучения террористов и тайных поставок оружия моджахедам, базировавшимся в лагерях беженцев ООН на афганско-пакистанской границе, которые курировал Ага Хан (ставший одним из координаторов глобальной агентурной сети моджахедов).
Незадолго до этого давний теннисный партнер князя, тогда вице-президент США, Джордж Буш (старший), привлекал его к тайным переговорам по освобождению американских заложников в Иране. Тогда же часть оружия, поставленного моджахедам, направлялась в Иран по линии проекта "Иран-контрас".
Князь Садретдин Ага Хан был ключевой фигурой в создании Всемирного Фонда Природы (ВФП) британского принца Филиппа - наиболее важного спецпроекта британского королевского дома. С этого момента он, как и его племянник, тогдашний глава секты, являлся одним из его основателей. Благодаря лондонскому Фонду Ага Хана и женевскому Фонду Бельрив (Bellerive Foundation) Садретдин стал всемирно известным защитником окружающей среды.
В 1983 году ВФП убедил пакистанское правительство создать в северной части провинции Читрал (Chitral), как раз на афганской границе - два национальных парка. Этот отдаленный район не отличался ни изобилием животного мира, ни наличием исчезающих видов, а поток эко-туристов иссяк в результате войны. Но зато Читрал был известен изобилием и качеством опиумного мака, который усердно выращивали моджахеды. И здесь же начинались маршруты контрабанды оружия в Афганистан.
После того, как ВФП создал национальные парки, Ага Хан и его последователи начали финансовые вливания в Читрал и близлежащие районы Гилгит и Ханза (Gilgit and Hunza), граничащие с индийским Кашмиром. Установив тесные связи с сепаратистами из пробританского "Движения за независимость Кашмира", они начали деятельность по созданию независимого исмаилитского государства, отделенного от Пакистана и Индии.
Сегодня, когда идут последние приготовления к большой войне в Центральной Азии, а Пакистан находится на грани распада, этот проект приобретает все более реальные черты, тем более, что его реализация позволяет вовлечь в конфликт Индию...
Горные козлы Читрала.
Читрал, узкая долина длиной 320 км на северо-западе Пакистана, является домом для четверти миллиона людей, проживающих в маленьких деревнях в квадратных каменных домах, расположенных среди террассных полей пшеницы и кукурузы.
Отрезанная от отстальной части Пакистана снегопадами с декабря по май, долина оживает летом и является идеальным местом для треккинга, рафтинга на горных реках и других видов туризма. Контраст между яркими террасами зеленых полей, голыми бурыми склонами и вознесенными ввысь башнями заснеженных гор придает Читралу незабываемую красоту.
Читрал граничит с долиной Калаш Берира, Бумберета и Рамбура, плотно засаженной растительностью и гигантскими ореховыми и фруктовыми деревьями, окутанными виноградными лозами, спускающимися в быстро бегущие ручьи. Долина является родным домом Калашского народа, который, по преданию, произошел от легионов Александра Великого. Жители Калаша отличаются культурой и верой; светловолосые и голубоглазые, они не похожи на народы из других соседних общин Читрала и остаются загадкой для многих туристов и путешественников.
Хотя горный район Читрала и долину Калаш ежегодно посещают 2.500- 3.000 иностранных туристов, их число может значительно возрасти и увеличить прибыль от туризма местным общинам в регионе, где бедность остается основной проблемой.
Партнер ЮНЕСКО в Пакистане, Программа Ага Хана по поддержкe села, совместно с Читралской Ассоциацией горного туризма (САМАТ), имеeт многолетний опыт работы в регионе, в особенности по борьбе с нищетой, снижению миграции сельского населения в города и разрушению горских общин.
Проект ЮНЕСКО-Ага Хан направлен на продолжение работы по программе Ага Хана в регионе, определение регионов туристических мероприятий, подготовку местных гидов, создание управляемых местными жителями гостевых домов, а также рекламирование региона на Веб-сайте и в брошюрах.
Основной частью проекта является укрепление Читральской Ассоциации туризма в горном регионе, что позволит ей реализовать свой потенциал как информационного центра и для групп населения, желающих заняться туристической деятельностью, и для самих туристов. Создается Кодекс положительного опыта, который будет служить пособием для будущих мероприятий.
В недавнем исследовании, проведенном ГТЦ и Фондом Ага Хана, дополнительные потенциальные доходы оцениваются в 15-20 миллионов долларов США в год от туризма на природе.
Обмены долга на природные ресурсы были введены во множестве стран в 1980-х годах в качестве инструмента для увеличения поддержки окружающей среды при сокращении внешнего долга. Долговой обмен (или преобразование) представляет собой отмену внешнего долга в обмен на обязательство правительства-должника мобилизовать внутренние ресурсы для согласованной экологической цели.
Обычно это - экологические проекты, охватывающие сохранение биологической вариативности, поддержку и развитие существующих заповедников, сокращение выбросов газа из оранжереи и трансграничных загрязнений. Такие обмены применяются и к двустороннему и коммерческому долгу. Обмены долга на природные ресурсы - обычный инструмент в финансовых зачетных схемах. До сих пор осуществлено 45 программ обмена в 17 странах, давших за приблизительно 1 миллиард долларов США по обменам долга на природные ресурсы. Обычно какая-либо международная неправительственная организация действует в качестве посредника в разработке предполагаемых проектов.
Кыргызская Республика, которая имеет одно из самых высоких отношений суммы долга к ВВП из всех стран с экономиками переходного периода, также обладает уникальными активами биологической вариативности. Они включают разновидности животных и растений в перечне исчезающих видов (Красная книга, включая снежного барса, бурого медведя, Центральноазиатского горного козла и овцы Марко Поло). Однако их численность уменьшается из-за интенсивного вмешательства, фрагментации и разрушения среды обитания. Управление защищаемых зон ограничен в ресурсах для того, чтобы он мог серьезно решать какие-либо вопросы охраны окружающей среды.
Однако есть значительный интерес в международном сообществе по охране окружающей среды к защите этих довольно уникальных ресурсов. Вариант механизма обмена долга на природные ресурсы включен в текущее соглашение в рамках Парижского клуба о переоформлении кыргызского внешнего долга.
Всемирный фонд охраны животных ООН /ВФОЖ/ продлил на пять лет программу по сохранению в Пакистане занесенных в Красную книгу снежных леопардов, сообщает в среду газета "Доон" со ссылкой на советника этого фонда Ахмада Хана.
Этот исчезающий вид кошачьих встречается в десяти странах региона, включая Пакистан, Россию и республики Средней Азии. В Пакистане снежные леопарды водятся лишь в районе Читрала, граничащего с Афганистаном и расположенного недалеко от Памира. Здесь, по данным ООН, осталось не более 200 этих животных.
Трудность в том, что местные жители ненавидят диких кошек, поскольку те нападают на домашний скот. При любой возможности жители Читрала, несмотря на существующие запреты, стараются убить своих "врагов".
Сотрудники ВФОЖ проводят "разъяснительные беседы", рассказывая о необходимости охраны леопардов, выдают беспроцентные ссуды местным жителям на разведение скота, проводят вакцинацию коров, овец и коз.
В действительности, ежегодно 40% скота погибает в Читрале от различных болезней, и лишь один процент гибнет от лап и зубов снежных леопардов. ВФОЖ также проводит выставки продукции ремесленников Читрала в Европе и Америке, деньги от продажи идут на развитие животноводства.
Однако недоброжелатели Ага Хана обращают внимание на тот факт, что имамат особенно активно стремится обосноваться в самых "наркосырьевых" районах региона. В 1983 года при непосредственном участии Ага Хана IV в пакистанской провинции Читрал на афганской границе было образовано два национальных парка. Именно через Читрал, который граничит и с индийским Кашмиром, проходили основные маршруты контрабанды оружия афганским моджахедам, а также здесь располагались многочисленные плантации опиумного мака. В середине 80-х Фондом Ага Хана была разработана специальная программа финансовой помощи этому региону.
До сих пор через Читрал, граничащий с афганским Бадахшаном, и далее через Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана наркотики переправляются сначала в Киргизию, затем в другие страны СНГ и уже оттуда в Европу. Показательно, что Фонд Ага Хана проявляет особый интерес к Ошской области, самому "нарконосному" региону Киргизии.
На самом деле, не все так плохо в Чирале. В субботу, 8 июля 2006 года, в Пакистане началось строительство крупнейшего в Азии туннеля, который соединит изолированную область Читрал с областью Дир. Началу строительных работ над данным проектом официально дал старт сам президент страны Первез Мушарраф, сообщают пакистанские СМИ.
Есть, например, еще хорошая возможность поохотиться на мархоров и отправить трофеи домой, с соответствующими документами CITES.
Три родственных вида Pir Pangal Markhor в долине Читрал, провинция NWF, Astor Markhor в Северных районах и Souleiman Markhor в Балуджистане. В мире существуют шесть различных видов мархора, все они, включая Kashmir, Souleiman, Kabul, Astor и Chiltan обитают в Пакистане.
Kabul Markhor обитает также в Восточном Афганистане, а Bukharan Markhor - в Северо-западном Афганистане, Туркменистане, Таджикистане и Узбекистане. Органы CITES после тщательного изучения выдали 6 разрешений для Пакистана в 1997 году. Пакистан реализовал 3 разрешения на Kashmir Markhor в долине Читрал, Северо-восточная приграничная провинция, 2 разрешения на Souleiman Markhor в провинции Балуджистан и 1 разрешение на Astor Markhor в Северном районе. В дальнейшем из-за программ, направленных на сохранение популяции, охота не разрешалась до 1999г. Первые трофейные охотники охотились в 2000 г. на Kashmir и Souleiman Markhor.
С тех пор отстреляно 11 красивых мархоров, что, конечно же, помогло сохранению популяции. Дело в том, что 75% стоимости охоты передается в местные органы власти, которые серьезно заботятся о популяции и 25% остается в Охотничьем департаменте страны. Таким образом, настоящая программа охоты на мархора доказала, что это самый лучший способ его сохранения. На сегодняшний день в этих двух районах популяция мархора увеличилась с нескольких сотен до нескольких тысяч (!). Сегодня их будущее зависит во многом от успешной реализации программ в дальнейшем.
Теперь подробности охоты на мархора.
Kashmir Markhor (Pir Panjal). Район Читрал находится в северо-восточной части Северо-Западной Граничной Провинции Пакистана. В район можно попасть из Пешавара самолетом Пакистанских авиалиний. Рейсы осуществляются каждое утро в зависимости от погоды, и полёт длится около часа. Размещение в частных пансионах или лагерях. Популяция мархора довольно большая, каждый охотничий день можно увидеть до 200 мархоров. Имеется два органа местной власти, где можно получить экспортное разрешение CITES, так что трофей может быть вывезен в любую точку мира. В Читрале выдается три разрешения. Кашмирский мархор - является самым большим из всех видов, с рогами, как у антилопы Куду. Средний размер рогов 40" - 44"(дюймов). Шанс добыть такой трофей очень высок.
Рядом с этим районом возможна охота на Himalayan Ibex. Продолжительность охоты на Himalayan Ibex минимум 5 дней. Самый подходящий период для охоты на Pir Panjal - с 10 декабря по 20 января, так как это период гона, но сезон продолжается до конца марта. Если охотник имеет проблемы с физической подготовкой, ему лучше охотится в декабре-январе, так как во время гона животные подходят совсем близко к дороге. Можно увидеть до 200 особей ежедневно с величиной рогов 38" - 41" , но при старании можно добыть и более крупный трофей.
Souleiman Markhor. На этот вид мархора можно охотиться в горах Torghar, в районе Quetta в Балуджистане. В район Quetta можно попасть из международного аэропорта в Исламабаде или Карачи, продолжительность полета 1 час. До района гор Torghar необходимо ехать 7 часов на джипе. Размещение в пастушьих хижинах или палатках. В этом же районе можно охотится на Souleiman Markhor или Afghan Urial. Оба вида находятся в хорошем состоянии, успешно работают программы по их защите. Средний размер трофеев 33"-35". В 2001 году один охотник добыл трофей 40".
Средний размер Afghan Urial 26" - 30". Сезон охоты начинается с конца ноября . Охота на Souleiman Markhor самая лучшая в период с 10 ноября до 20 декабря, но вообще охота разрешена до 31 марта. Всего выдается 2 разрешения для охоты на мархора в этом районе. Обеспечиваются необходимые разрешения CITES и разрешение на вывоз трофеев Markhor и Urial.
Astor Markhor. В Северных районах Gilgit и Gol Северо Западной Граничной Провинции обитает Astor Markhor и Himalayan Ibex. Благодаря хорошему управлению популяцией и программам защиты, популяция находится в хорошем состоянии. Так как охота проводится на относительно ровной местности, она очень популярна. Можно добыть трофей размером 40". Сезон этой охоты с 10 декабря по 20 января и с 1 по 31 марта.
Из всех видов Pir Panjal этот может быть самым легким. С переездом от Исламабада и обратно 12 дней может быть достаточно, чтобы добыть этот трофей. В программу включен транспорт из Исламабада до Пешавара и перелет до Читрала. Если необходим чартерный рейс или вертолет, его надо будет оплатить дополнительно. Может быть предоставлен переводчик с немецкого, русского и английского языков и очень высокий уровень обслуживание гостей. Их безопасность гарантирована, об их трофее позаботятся и перешлют по указанному адресу.
Район охоты: северо-восток Пакистана. Долины Tushi и Arkari. Национальный Парк Chitral Gol, когда-то частное охотничье хозяйство Mehtar.Охота проходит на высоте 2500 - 3000 м над уровнем моря.
Метеоусловия: температура -5?С -15?С, возможен снег.
Способы охоты: охота с подхода, требует хорошей физической подготовки.
Продолжительность тура: 4-6 дней охоты
Сроки охоты: 01 декабря - 31 марта
Оптимальное количество человек в группе: 2 чел.
Трансферт:
Москва - Дубай - Карачи - Исламабад
Москва - Франкфурт - Лондон - Исламабад
Москва - Доха - Исламабад
Исламабад - Дубай - Москва
Исламабад - Абу-Даби - Доха - Москва
Исламабад - Карачи - Дубаи - Москва
Доставка в угодья: самолетом в Chitral и далее автотранспортом к месту охоты. При отмене авиаперелетов из-за погоды автотранспортом в Chilas - около 10 часов.
Вид транспорта на охоте: пешком
Условия проживания: в Принц-отеле в Chitral. Во время охоты при необходимости лагерь в горах - двуспальные палатки, кухонная палатка, обеденная палатка.
Стоимость тура: USD 60 000.
В стоимость тура входит:
- визовая поддержка.
- оформление разрешений на ввоз/вывоз оружия и патронов.
- трансферт аэропорт - место охоты - аэропорт.
- внутренние авиарейсы.
- питание - полный пансион, проживание во всех гостиницах в течение тура
- гид, переводчик, повар.
- лицензия на отстрел.
- егерское обслуживание.
- первичная обработка трофея.
- оформление разрешений на вывоз трофеев, СИТЕС.
- использование оборудования лагеря.
- медицинская страховка.
Не входит в стоимость тура:
- перелет Москва - Исламабад - Москва.
- доплаты за перелет первым классом на внутренних авиалиниях.
- страховка оружия.
- спиртные напитки, в том числе пиво и сигареты.
- безалкогольные напитки.
- отправка трофеев по указанию клиента - по фактическим затратам.
- оформление разрешений на ввоз трофеев.
- таксидермические услуги.
В случае отмены охоты или неудачной охоты, понесенные расходы не могут быть возмещены ни при каких обстоятельствах.
Тур считается заказанным охотником с момента получения подтверждения принятия заказа и внесение оплаты за тур.
Такое вот интересное предложение из Читлара от соратников Ага Хана...
Россия на Памире
Долины Восточного Памира взнесены на четыре тысячи метров над уровнем моря, а гребни гор возвышаются над долинами еще километра на полтора, на два. Именно об этих местах писал Суань Цзан: "...царствует здесь страшная стужа, и дуют порывистые ветры. Снег идет и зимою и летом. Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменной россыпью. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня, без следа человеческого жилища..."
Столь же унылым представал Памир и в описании Марко Поло: "...поднимаешься, говорят, в самое высокое место в свете... Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет оттого, что высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета, как в других местах..."
Первым европейцем, прошедшим (в 1878 году) с севера на Памир до Аличурской долины, был Н. А. Северцев. В 1882 году русский ботаник А. Э. Регель первым 13 европейцев посетил Шугнан - ханство на Юго-Западном Памире (ныне Горно-Бадахшанской автономной области). Горный инженер Г. Л. Иванов был первым русским геологом, прошедшим по Восточному Памиру. Ряд других исследователей Памира позже совершали только отдельные маршруты, а начало систематическому всестороннему изучению Памира было положено лишь в 1928 году комплексной экспедицией Академии наук СССР, руководимой Н. П. Горбуновым. Ее участники прошли и изучили неведомую область самого большого на Памире "белого пятна" - область исполинского современного оледенения. Дотоле никто не знал, что собою представляет высокогорный бассейн ледника Федченко, открытого и названного так энтомологом Ошаниным в 1878 году.
Исследуя хребет Петра I, Ошанин увидел издали "язык" этого гигантского ледника и дал ему имя своего знаменитого предшественника, открывшего для науки Заалайский хребет и через несколько лет трагически погибшего в Альпах. Топограф Н. И. Косиненко в 1908 году поднялся на ледник Федченко, прошел вверх по нему километров тридцать, но дальше проникнуть не мог. И только в 1928 году экспедиция Академии наук впервые прошла и нанесла на карту все главные ледники этого бассейна и основной ледник - ледник Федченко. Он оказался крупнейшим в средних широтах мира. Огромная работа, с опасностью для жизни, была проделана топографом И. Г. Дорофеевым и многими другими участниками экспедиции. Здесь были открыты десятки высочайших пиков, высотою от шести до семи с половиной тысяч метров над уровнем моря. Рухнули фантастические представления об этой дотоле загадочной области, созданные прежними иностранными путешественниками, иной раз даже близко сюда не подходившими. Ни выдуманного датчанином Олуфсепом "племени карликов", будто бы обитавшего здесь, ни других чудес в ледяных высях не оказалось. Появились первые точные знания - географические, климатические, глациологические...
В глубоком геологическом прошлом на месте теперешней Средней Азии было огромное море Тетис, протянутое в широтном направлении. Это море впоследствии, по мере постепенного поднятия земной коры, исчезло. Позднее тектонические движения вспучили земную кору - громадные складки, расположившиеся дугообразно, стали прародителями современных гор. Понадобились миллионы лет, чтобы размытые водами, выветренные, эти складки приобрели современные формы рельефа.
В теперешней Средней Азии есть две основные горные системы: Тянь-Шаньская и Памиро-Алайская. Хребты Тянь-Шаньской системы высятся дугами, выгнутым" в сторону юга. Хребты Памиро-Алайской системы выгнуты в противоположную сторону - к северу. До нашего времени границей между этими системами многие геологи считают Алайскую долину, взнесенную на высоту в три тысячи метров над уровнем моря и протянутую на сто тридцать километров. По обе ее стороны возвышаются два мощных горных хребта: с северной стороны - Алайский хребет, принадлежащий к Тянь-Шаньской системе, и с южной стороны - Заалайский хребет, первый колоссальный барьер Памира.
Средняя высота Заалайского хребта - шесть километров над уровнем моря. Он ощеривается в небо высочайшими пиками. Пик Ленина (7134 м), пик Пограничник, пик Архар, пик Якова Свердлова, пик Заря Востока, гора Дзержинского, гора Красина, гора Цюрупы, хребет Баррикады - все эти названия даны вершинам Заалайского хребта только в 1928 году Памирской экспедицией Академии наук СССР.
Дикая страна вьюг, туманов, снега и льда; страна, в которую даже птицы не залетают; страна грохочущих обвалов, снежных лавин, ураганных морозных ветров, разреженного воздуха,-эта безжизненная страна в ясный солнечный день снизу, с холмов Алайской долины, представляется человеку легкой и призрачной, блистающей и прекрасной. Она действительно великолепна. Тот, кто раз побывал здесь, вряд ли забудет ее непередаваемую красоту.
Но на вершину пика Ленина - на высшую точку Заалайского хребта- в тридцатых годах удалось подняться только очень немногим людям - альпинистам, преодолевшим почти нечеловеческие трудности. Пики Заалайского хребта стоят длинной цепью, то ослепительно сверкающей в лучах восходящего солнца, то скрытой полчищами клубящихся облаков. Снизу
даже трудно представить себе, какие дикие ураганы и бури, пурги и бураны бесятся в этих облаках, как будто бы легких и прозрачных.
Первым из исследователей, кто увидел этот хребет, был известный талантливый ученый Алексей Павлович Федченко, проникший 20 июля 1871 года на перевал Тенгиз-бай и на гору, возвышавшуюся над ним. "...Перед нами открылась панорама исполинских снеговых гор...- пишет А. П. Федченко, - С этой горы я увидел еще больше снеговых масс на юге. Крайние из них, направо, были видны под углом 198 градусов ,- это была целая группа пиков, вздымавшихся гораздо выше снеговой линии, резко отделявшаяся от прилегающих гор. От них на восток виднелась уже целая линия снеговых громад, все-таки местами прерывавшихся, потому что их заслоняли близкие горы. Под углом 115 градусов, т. е. почти на востоке уже, виднелся пик, который, несмотря на свое наибольшее отдаление, был все-таки выше других..."
Этот пик ныне носит имя Ленина. Первыми русскими учеными, исследовавшими Алайскую долину, были геолог И. В. Мушкетов, зоолог Н. А. Северцев, естествоиспытатель В. Ф. Ошанин и некоторые другие. С помощью царской администрации и
под охраной казачьих конвоев через Алайскую долину прошли: швед Свен Гедин, датчанин Олуфсен, американцы Пемпелли и Хеттингтон, француз Ив, немец Шульц и другие. Но серьезными научными исследованиями занимались здесь только русские ученые. Среди русских ученых, посвятивших многие годы своей жизни исследованиям Алая, нужно прежде всего назвать географа и глациолога Н. Л. Корженевского.
В первые годы Октябрьской революции Алай стал ареной ожесточенной классовой борьбы. Несколько лет здесь продолжалась гражданская война. Советская власть была установлена здесь в 1922 году, после ликвидации бандитских шаек местного "временного правительства Ферганы", сформированного на деньги зарубежных империалистов и находившегося в пограничном с Китаем укреплении Иркештаме. Первый революционный комитет был организован в Алае 9
декабря 1922 года. Планомерное научное изучение Алая началось с 1928 года, когда, участвуя в Памирской экспедиции Академии наук СССР, профессор Н. Л. Корженевский составил подробнейшее географическое описание этого района. В честь Корженевского его именем был назван большой, спускающийся с Заалайского хребта (от истоков реки Джанайдар) ледник...
Вот как Павел Лукницкий описывает экспедицию 1930 года на Памир в своей книге "Памир без легенд (рассказы и повести)":
"...На картах значится: "Укрепление Гульча". Но первая половина этого обозначения существует только на картах. Укрепление исчезло вместе с царизмом. Стены, башни, брустверы, крепостные ворота Гульчи разрушены. А в казарменных зданиях внутри разрушенных стен-ныне исполком, земотдел, склад фуража, комната уполномоченного Особого отдела Тихонова. Рядом-каменные постройки почты, ветпункта и больницы. Дальше - квадрат зеленой травы. Еще дальше - кишлак: одна улица, ряд слипшихся глинобитных лачуг. В них - два кооператива, пекарня, отделение милиции и гульчинские жители. Кругом тополи, кустарник, жидкий лесок...
Гульча - ярко-зеленое дно большой чаши. Долина. Края чаши - горы, снежные берега, омываемые голубым небом. Почва на склонах гор зябкая, набухшая, еще не сбросившая с себя оцепенение зимы. Летом склоны зазеленеют квадратами богарных посевов, а сейчас горы безжизненны, неприютны. Только по лощинам чернеют киргизские юрты, насквозь прокопченные дымом очагов. Гульча - последний "город" в горах на пути из Оша к Памиру. Город - это местное преувеличение. На деле, Гульча тридцатого года - крошечный, тихий поселок. В нем насчитывалось всего полтора десятка жителей - доктор, агрономы, работники кооператива, несколько милиционеров.
Сведения о взятии Гульчи мы получили на рассвете 22 мая 1930 года. Никаких подробностей мы не знали. Мы узнали их много позже, по читателю я могу рассказать все так, словно тот трагический для Гульчи день встает перед
моими глазами сейчас.
Двадцать первого мая в Гульче был базарный день. На базар съехалось несколько сот окрестных киргизов. Почему же так много? Никто не знает. Почему они без скота? Никто не задумывается. Должно быть, все покупатели. Почему среди них столько никому не знакомых яиц? Да просто понаехали издалека. Обычно в базарные дни приезжие отгоняют своих лошадей на пастбище. А сегодня лошади привязаны к молодым, в прошлом году посаженным деревьям. Лошади объедают побеги, с корнем вырывают деревья.
- Разве можно? - нахмурившись, говорит длинный киргиз - начальник милиции.
- Можно. Тебе дело какое? - крутя жиденькую бородку, вызывающе отвечает приехавший бай.
Он спорит, он нещадно ругается. Начальник милиции подходит к другим.
- Отвяжите лошадей!
Над ним издеваются, смеются в лицо.
- Хорошо,- отвечает начальник милиции.- Я оштрафую вас.
Тогда бородатый делает знак остальным. Они бросаются скопом. Взмахи ножей, вскрик, и начальник милиции мертвый лежит на земле.
Так начался этот день.
Съехавшаяся "на базар" банда вскакивает на лошадей... В кооператив влетает орава.
- Давай спички!
За прилавком молодая киргизка, комсомолка.
- На, друг, бери! Давай две копейки!
- Э... Две копейки?..
Женщина взвизгивает под ударом камчи.
- Что делаешь? Зачем бьешь?! - кидается к прилавку ее муж.
Орава убивает киргизку и ее мужа.
...Десяток приехавших входит в комнату Тихонова Тихонов только что проснулся. Встает, шлепает к ним босиком.
- Здравствуйте, товарищи... Что хорошего скажете?
Вместо ответа из-за спины других - пуля. Тихонов, не вскрикнув, падает на пол...
По Гульче - вой и стрельба. Жители бегут в горы. Басмачи ловят их, расстреливают, режут. Над Гульчой занимается пламя. Местный судья бежит в горы. В кобуре - наган, в кармане - маузер. Басмач подскакивает к судье, в упор наставляет винтовку.
- Давай оружие!
Судья срывает с плеча наган, бросает его на землю, Басмач спрыгивает за наганом, наклоняется. Судья вынимает из кармана маузер и, влепив заряд в голову басмача, поднимает наган, вскакивает на басмаческого коня, скачет в горы. Судья остается жив. Впрочем, и басмач тоже жив. Через месяц я видел его: рана на его голове отлично зарубцевалась.
...Гульча горит. Трещит телефон в почтовой конторе. Трещат двери, и телефон умолкает. Из Суфи-Кургана срывается начальник заставы Любченко с одиннадцатью пограничниками. Они мчатся к Гульче. На заставе осталось всего
семь пограничников.
Вечер. Черное небо. Нет, не черное - красное, потому что Гульча горит. По небу прыгают красные отсветы. Басмачи грабят истерзанную Гульчу. Двенадцать всадников, озаренных красным светом, на карьере спускаются с перевала. Лошади взмылены и хрипят. Завтра этих лошадей придется убить: они загнаны. Но сегодня в них боевая взволнованность, и седоков своих они не подведут.
Двенадцать пограничников окружают Гульчу. Своим в скорострельным маузером Любченко изображает пулемет, которого у него нет. Бой. Сотни басмачей бегут из черной, горящей Гульчи. Любченко входит в поселок. Сегодня на всю ночь хватает работы; патрули, восстановление телефона, перевязка раненых. Надо собрать убитых и похоронить их. Костры басмачей горят на окружающих сопках. Доносятся крики, ругательства, вой.
Из Оша на автомобилях до перевала Чигирчик, а дальше пешком спешит небольшой отряд. Из Оша мчатся два эскадрона маневренной группы. Они будут здесь послезавтра - 23 мая, во второй половине дня.
Часть банды собирается в глухих ущельях и снова пускается в путь: спешит в Суфи-Курган, чтобы взять заставу и разгромить ее так же, как разгромлена Гульча.
Утром 22 мая 1930 года в Ак-Босоге мы ничего об этом не знали, а потому и решили двинуться в Суфи-Курган...
...Их было трое, на хороших конях. Поверх полушубков были брезентовые плащи. За плечами - винтовки, в патронташах - по двести пятьдесят патронов. На опущенных шлемах красные, пятиконечные звезды. Они возвращались из Иркештама. Одного звали - Олейников, другого - Бирюков, третий - лекпом, и фамилии его я не знаю.
Завалив телеграфные столбы, лежал снег в Алайской долине. Набухший и рыхлый, предательский снег. Три с половиной километра над уровнем моря. В разреженном воздухе бойцы трудно дышали. На родине их, там, где соломой
кроют избы, высота над уровнем моря была в десятки раз меньше. Там дышалось легко, и никто не задумывался о странах, в которых кислорода для дыхания не хватает. Там жила в новом колхозе жена Бирюкова, отдавшая в детдом своих пятерых детей. Она не знала, что муж ее на такой высоте. Она никогда не видела гор. Жена Олейникова жила в Оше и перед собою видела горы. Горы, как белое пламя, мерцали на горизонте. Голубое небо касалось дальних слепительно-снежных вершин. Вверху белели снега, а внизу, в долине, в Оше цвели абрикосы и миндаль. Жители Оша ходили купаться к холодной реке Ак-Буре, чтоб спастись от знойного солнца. Жена Олейникова ходила по жарким и пыльным улицам, гуляла в тенистом саду. Жена лекпома жила в другом краю - далеко на севере, там, где земля черна и где сейчас сеют рожь.
Их было трое, на хороших конях. Они возвращались на погранзаставу в Суфи-Курган. Иногда они проходили только по полтора километра в день. Лошади проваливались в снегу, бились и задыхались. Пограничники задыхались тоже, но
вытаскивали лошадей и ехали дальше. У них был хороший запас сахара, сухарей и консервов, У них были саратовская махорка и спички. Больше ничего им не требовалось. На ночь они зарывались в снег и спали по очереди. Из вихрей бурана, из припавшего. к земле облака в ночной темноте к ним могли подойти волки, барсы и басмачи. По утрам бойцы вставали и ехали дальше. Ветер продувал их тулупы насквозь. Они с бою, держась за хвосты лошадей, взяли перевал Шарт-Даван. Здесь высота была около четырех километров. Спускаясь с перевала, они постепенно встречали весну. Весна росла с каждым часом. Через день будет лето. Кони приободрились, выходя на склоны, где стремена цепляли ветви арчи, где в полпальца ростом зеленела трава. Завтра пограничники въедут во двор заставы.
О чем говорили они - я не знаю. Вероятно, о том, что скоро оканчивается их срок, и они вернутся в родные колхозы и расскажут женам об этих горах. И, вероятно, они усмехались с гордостью.
В узком ущелье шумела перепадами белесой воды река. Солнце накалило камни ущелий. Пограничники сняли брезентовые плащи и тулупы. С каждым часом они ехали все веселей.
Но в узком ущелье послышался клич басмачей, и со стен вниз разом посыпались пули. Пограничники помчались, отстреливаясь на скаку. Кони знали, что значит винтовочный треск. Коням не нужно было оглаживать шеи. Они вынесли пограничников из ущелья, но тут вся банда остервенело рванулась на них.
Что чувствовали, что думали пограничники, - этого, собственно, никто не знает. Вероятно, осадили коней, и оглянулись. Поняли, что отступления нет, побледнели и замешкались на секунду. И, должно быть, не осознали, что вот это и называется страхом. Но у бойцов сильнее страха действуют досада и злоба. Они прорываются в одном каком-нибудь слове:
- Даешь!..
И нерешительность обрывается. Пограничники выхватывают клинки и мчатся навстречу банде.
- Даешь! - И клинки хрустят по головам и плечам.
- Даешь! - И басмачи расступаются...
А может быть, пограничники врубились в орду без единого слова, со сжатыми плотно губами, с лицами тяжелее камня? Не знаю. Знаю только, что в банде было не меньше двухсот басмачей и что пограничники прорвались на
вершину ближайшей горы.
Этих пограничников банда взяла в кольцо. Пограничники спешились и залегли на вершине. Здесь было два больших камня, и между камнями пограничники спрятали лошадей. Прилегли за камнями и защелкали затворами быстро и механически точно. Басмачи падали с лошадей. Воя по-волчьи, басмачи кидались к вершине и умолкали, в тишине уносясь обратно, перекидывая через луку убитых. Пограничники работали методично. Тогда началась осада, и басмачи не жалели патронов. Много раз они предлагали пограничникам сдаться. Пограничники отвечали пулями. Так прошел день. А к вечеру у пограничников не осталось патронов. Жалобно ржала раненная в ключицу лошадь. Тогда пограничники поняли, что срок их кончается раньше, чем они думали. Басмачи опять нажимали на них. Пограничники сломали винтовки и, оголив клинки, бросились вниз. Выбора у них не было. Басмачи заняли склон. В гуще копыт, лошадиных морд и халатов пограничники бились клинками. Но басмачей было двести, и пограничников они взяли живыми...
...Памир переставал быть таинственной заповедной страной. Легенды уступали место строгим расчетам и точным цифрам. Началась всеобъемлющая, будничная, плановая работа по превращению Памира в область во всех отношениях и в подлинном смысле слова советскую. Героический период маленьких, уходивших как на иную планету экспедиций закончился. Романтика медленных, дальних странствий сменялась повсеместным торопливым движением, календарными неумолимыми сроками. На Памир вступили десятки научных отрядов огромной Таджикской комплексной экспедиции, в которой было триста научных работников, а всего - больше тысячи участников.
Эту экспедицию прекрасно организовал и умело ею руководил Николай Петрович Горбунов, - в прошлом, при В. И. Ленине, управляющий делами Совнаркома РСФСР, а с конца двадцатых годов энергичный исследователь Памира, замечательный ученый, впоследствии академик, непременный секретарь Академии наук СССР.
Романтическими становились сами дела, их широки масштабы, их огромное научное и социально-экономическое значение, их необъятная перспективность..."
На геологической карте СССР, где было отмечено распределение полезных ископаемых, в глаза бросались два белых пятна: Памир с Тянь-Шанем и Северо-Восточная Сибирь. Именно эти два региона современные американские геологи выделяют как наиболее перспективные для разведки и добычи. Среди других горных систем ни исхоженный геологами Кавказ, ни малоисследованные Гималаи не могут тягаться с этими кладовыми.
Памирские недра богаты полезными ископаемыми, выявлено более 400 месторождений, содержащих более 70 видов рудных и нерудных полезных ископаемых. Более 100 месторождений эксплуатируются, на них добывается 36 видов минерального сырья. По сообщению специалистов госкомпании "Барки Точик", на таджикском Памире готовы к освоению месторождения:
- серебра (750 млн. т руды, 40 тыс. т чистого металла),
- свинца (5 млн. т), цинка (4,5 млн. т),
- никеля (близкого по составу к норильскому никелю),
- олова (13 тыс. т), ртути (5 тыс. т),
- сурьмы (290 тыс. т), меди (123 тыс. т),
- висмута, вольфрама (17 тыс. т),
- молибдена, бора, стронция, мышьяка, каменного угля (400 млн. т),
- сверхчистых малозольных антрацитов (300 млн. т),
- золота (200 т),
- благородного камня шпинель-лал, лазурита, рубина и других драгоценных и полудрагоценных камней, плавикового шпата, сырья для строительных материалов, и т.д.
Таджикский алюминиевый завод (ТАЗ) выпускает алюминий, его сплавы и обоженные аноды, катанку, прокат, готовые изделия с использованием алюминия (телевизоры, посуду, автозапчасти и т.д.).
Через афганский Бадахшан лежит трасса газопровода от Каспия в Китай. Как считает главный аналитик информационного портала по нефтегазовой промышленности RusEnergy.com Михаил Крутихин, реализация трубопроводных проектов, поддерживаемых западными компаниями, потребует не одного года.
Когда в 1997 году американская Unocal возглавила консорциум Central Asia Gas Pipeline Ltd. (CentGas), задача снабжения туркменским газом Пакистана, а возможно и Индии, выглядела гораздо более привлекательной, чем сейчас. В начале 2002 года в Азии вновь всплыл и Unocal, который был одним из главных лоббистов проекта "расчистки трассы афганского газопровода" через Герат, Кандагар к пакистанской Кветте руками талибов.
Однако уже с совершенно новым проектом, не имеющим отношения к Туркменистану. Unocal предлагает Бангладеш протянуть в Индию газопровод протяженность 1350 км и стоимостью 900 млн. долл., который позволит снабжать газом Дели. Американцы уже выполнили предварительное исследование трассы и теперь дожидаются политического благословения, чтобы приступить к работе над ТЭО.
У России в ближайшие годы, считает Михаил Крутихин, сохраняются высокие шансы отстоять ведущие позиции в организации поставок нефти и газа из Каспийско-Среднеазиатского региона, несмотря на изменение геополитической обстановки в этом регионе, но лишь в том случае, если президенты Путин и Ниязов найдут взаимопонимание по согласованному выходу на внешние рынки (Евразийский газовый альянс).
В Согдийской области расположен один из первенцев советской атомной промышленности - производственное объединение "Восточный комбинат редких металлов" (ПО "Востокредмет"). "Востокредмет" занимается выщелачиванием металлов, производя закись-окись урана (мощность по руде 1 млн. т), особо чистую пятиокись ванадия (мощность до 1200 т, реальное производство несколько десятков тонн), золото, серебро и т.д. В него входят Гидрометаллургический завод, Чкаловский машиностроительный завод, рудоуправление, рудник открытой добычи, НИИ. Таджикский "Востокредмет" в настоящее время практически не работает, так как предприятия атомной промышленности в Средней Азии были рассчитаны на работу в едином комплексе, и после распада СССР выйти на мировой рынок и успешно там торговать удалось лишь узбекам (Навоийский ГМК) и казахам (Ульбинский металлургический завод). Тем не менее, по оценкам некоторых независимых экспертов, данные по запасам урана сильно искажены в сторону преуменьшения, и перспективные месторождения сосредоточены непосредственно в регионе. Во всяком случае, именно на Памире и Тянь-Шане располагались урановые советские рудники, а практически весь уран Китая сосредоточен на крайнем северо-западе - тех же самых горных системах. Соответственно, "Востокредмет" при соответствующем инвесторе может обрести перспективу.
Как указывает руководитель проекта "Горная геоэкология и устойчивое развитие" профессор Юрий Баденков, перспективные транспортные проекты на Памире тесно связаны с выходом в Китай и в Индийский океан. Высочайшая заинтересованность пакистанцев и таджиков в автотрассе объясняется очень просто - от Душанбе до выхода на Каракорумское шоссе немногим более 1000 километров.
Существует два основных варианта автодороги, связывающей Таджикистан с Пакистаном:
1). Душанбе - Хорог (через Куляб - Калаи Хумб) - Мургаб - перевал Кульма (граница Таджикистана с КНР) - выход на Каракорумское шоссе - Ташкурган - перевал Хунджераб (граница КНР с Пакистаном) - Балтит - Гилгит - Карачи;
2). Душанбе - Хорог - Ишкашим (граница Таджикистана с Афганистаном) - перевал Барогиль (граница Афганистана с Пакистаном) - Мастудж - Ласпур - перевал Шандур - Гупис - Гапуч - Гилгит - Карачи.
Нестабильная политическая обстановка в Афганистане препятствует использованию Ваханского коридора (афганского Бадахшана), по крайней мере, в ближайшем будущем.
Строительство дорожной сети Таджикистана финансируется МВБ, АБРР, Исламским банком развития, европейскими и японскими банками и фондами, и т.д. Определенную помощь оказывает Фонд Ага Хана и другие международные неправительственные организации.
Текущее предвоенное напряжение между Индией и Пакистаном сосредоточило внимание экспертов на южных памирских рубежах. Техасское агентство стратегического прогнозирования (Stratfor) озвучивает американскую точку зрения на Кашмирский кризис: "Любое соглашение, выработанное лишь руководителями Индии и Пакистана, обречено на провал из-за противодействия кашмирцев. И лишь в случае привлечения представителей кашмирцев к будущему переговорному процессу, такие переговоры имели бы более серьезный тон и большие шансы на окончательное урегулирование, в случае, если будет найдена общая позиция". Однако, в случае реализации американских идей по включению в переговорный процесс между Дели и Исламабадом еще и представителей от "Азад Кашмира", фактическим образом будет закреплена и легитимизирована в дальнейшем де-юре существующая сейчас лишь де-факто пакистано-китайская граница. Иными словами, любые даже малейшие индийские уступки могут навсегда отрезать Индию от собственного выхода на север.
В то же время в прошедшие годы были озвучены некоторыми индийскими экспертами по внешней политике предложения о поиске индийско-китайского взаимопонимания по границе в спорных горных районах. Вполне может оказаться, что спустя какое-то "горячее" время такие трезвые голоса будут услышаны в Дели и Пекине, и одним из компромиссов может стать взаимопонимание по стратегическим транспортным коридорам, с соединением китайской и индийской автодорожной сети, с выходом Индии через Синьцзян в Среднюю Азию, а Китая через индийскую территорию ныне оккупированного "Азад Кашмира" к порту Карачи.
Сближение позиций можно проводить в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), отдельные вопросы можно прорабатывать в рамках ШОС, ЕврАзЭС или других международных объединений. Такое парадоксальное на сегодняшний день транспортное взаимопонимание Дели и Пекина резко ослабит угрозу "высокогорного" экстремизма для обоих государств и единственно сможет обеспечить американским корпорациям безопасность амбициозных проектов доставки углеводородного сырья от Каспия в Китай и Индию.
"Мягкое подбрюшье" - так зачастую называют сегодня дружественные России государства Центральной Азии. И Россия заинтересована, чтобы здесь царили мир, спокойствие и стабильность. В этих целях она активно развивает с регионом двустороннее и многостороннее сотрудничество. Большой вклад в укрепление безопасности в регионе вносят расположенные здесь российские войска, базы и объекты. Вот и недавно на территории Республики Таджикистан поставлен на опытно-боевое дежурство оптико-электронный комплекс "Окно". Эта система обнаружения высокоорбитальных космических объектов по сравнению с традиционными радиолокационными средствами имеет значительно большую дальность действия, пропускную способность и более высокую точность измерения координат объектов космического пространства как на геостационарных, так и высокоэллиптических орбитах.
Способность контроля космического пространства стоит наряду с важнейшими стратегическими интересами России. Только два государства в мире - Россия и США - имеют специальные подразделения, которые контролируют космические объекты, собирают по ним различную информацию, определяют их орбиты, устанавливающие класс, предназначение, состояние и их "национальную" принадлежность.
Именно с целью наращивания таких возможностей вблизи города Нурека комиссией Космических войск и представителями промышленности были проведены завершающие работы по подготовке к постановке на опытно-боевое дежурство оптикоэлектронного комплекса обнаружения высокоорбитальных космических объектов "Окно" системы контроля космического пространства (СККП).
Этот день - 18 июля 2002 года, вошел в историю, открыв ее новую страницу. Оптикоэлектронный комплекс "Окно" является специализированным средством системы контроля космического пространства и предназначен для поиска и автоматического обнаружения космических объектов на высотах до 40 тысяч километров.
Строительство оптикоэлектронного комплекса "Окно" было начато в 1979 году. Однако в связи с обострением внутриполитической обстановки в Республике Таджикистан с 1992 по 1995 год работа по созданию комплекса была приостановлена. Место расположения объекта выбрано неслучайно: на таджикском высокогорье (2,2 тысячи метров над уровнем моря) большое количество ясных ночей, высокая стабильность и прозрачность атмосферы. На территории России регионов с такими уникальными условиями просто нет.
Для Космических войск, и вообще для России, ввод в эксплуатацию уникального по своим возможностям оптикоэлектронного комплекса "Окно" - несомненный успех. В ближайшие годы планируется наращивать и повышать его возможности.
Чем тяжелее рука - тем сильнее сопротивление, чем сильнее сопротивление - тем тяжелее рука. Наличие такого "Окна", подразумевает с противоборствующей стороны, если не "ставни" к этому "Окну", то службу противодействия, уж точно. Именно этой задаче посвящены будни авиабазы и РЛС, находящихся в Читрале.
Еще в бытность присутствия советских войск в Афганистане, Читрал был местом дислокации перевалочных баз по снабжению маджахедов. Так, в провинции Читрал, у кишлака Спиикай была оборудована вертолетная площадка. Сюда подвозилось предназначенное моджахедам оружие, боеприпасы, питание, медикаменты.
3 октября 1987 года пара советских вертолетов, заблудившись, "села без топлива" близ пакистанского города Читрал. МИД СССР принес извинения, и через два дня экипажи были отпущены.
С военной базы Битлис в Турецком Курдистане чеченские самолеты Ан-24 и Ан-26 летели на станцию Насосная с грузом оружия или забирали его в пакистанском аэропорту Читрал, откуда брали курс опять же в Насосную. Из Насосной самолеты по ночам и на малой высоте летели в горные районы Чечни, где их уже ждали на полевых аэродромах в районе Шатоя, Белой Шалажи и Чожи-Чу.
"Белый" героин, который идет с маркировкой "три семерки" (в народе - "три топора"), чистота которого доходит до 80-90 процентов, производится в лабораториях Читрала.
24.04.2001 14:16 | NEWSru.com. Влиятельная пакистанская религиозная партия "Джамиат уль-улема-и-ислам" (ДУИ) выступила с угрозами в адрес США, если те нанесут удары по афганскому движению "Талибан", сообщает ИТАР-ТАСС. Как заявил лидер этого влиятельного объединения Фазлур Рахман, в случае нападения со стороны американцев "мы не будем ждать ни минуты и отреагируем немедленно". По его словам, на днях на аэродроме населенного пункта Читрал на севере Пакистана якобы приземлился транспортный самолет ВВС США с 40 десантниками для проведения специальной операции в Афганистане. (Официальный Исламабад категорически опроверг это сообщение). Обратите внимание - это сообщение было опубликовано за пять месяцев до сентябрьской атаки на Манхетен. 27.12.2001 16:25 | ИД "Коммерсантъ". 27 декабря британская телерадиовещательная корпорация BBC обсуждает растущую популярность традиционных афганских шапок читрали в Европе и США. В течение последних 3 месяцев Афганистан был самой упоминаемой страной в выпусках теленовостей. В телерепортажах постоянно фигурировали бойцы Северного альянса в традиционных афганских головных уборах - читрали. Читрали - это плоские береты с подворачиваемыми со всех сторон краями. В лондонских магазинах запасы читрали уже на исходе. В магазине Turkman у лондонского вокзала Виктория продавец смог найти только две читрали, но они изготовлены не в Афганистане, а в Кашмире. Кроме того, одна из них красная, а другая белая. Между тем, покупатели требуют коричневые читрали - такого цвета был головной убор у "панджшерского льва" - убитого лидера Северного альянса Ахмад-Шаха Масуда. Читрали подходят современному горожанину - они удобные и теплые, их можно свернуть и засунуть в карман, а потом снова надеть и при этом они не потеряют своей формы. Оптовые цены на читрали в Европе и США достигают $35 за штуку, в то время как в Афганистане они стоят максимум $2-3. Так что, по крайней мере, одна отрасль разоренной афганской экономики имеет большие шансы на возрождение.
23.09.2002 10:45 | РИА "Новости". Недавно горные районы Читрала и Гилгита посетила группа американских журналистов, "которые подтвердили отсутствие здесь каких-либо центров по подготовке боевиков", отметил советник президента Первеза Мушаррафа, глава военной информационной службы генерал Рашид Куреши. В то же время, он считает, что в некоторых районах Афганистана, находящихся под контролем местных полевых командиров, "возможно идет процесс перегруппировки сил этой террористической организации".
CNN, от 24 августа 2006, опубликовало сообщение под заголовком "Усама бен Ладен скрывается в пакистанской провинции Читрал".
Замечательным продолжением этой темы является сообщение от 20 октября 2006 года о том, что самолеты НАТО, из состава международных сил в Афганистане, нарушили воздушное пространство Пакистана и подвергли бомбардировке два населенных пункта в приграничном районе Читрал. Удары наносились по деревням Дарошот и Азо. К счастью, человеческих жертв удалось избежать, но из-за возникшего пожара уничтожен лес ценных пород, составлявший основу местной экономики.
Жители приграничных деревень потребовали от правительства Исламабада принять меры по недопущению нарушений границы со стороны авиации Североатлантического альянса.
Последняя по времени, идущая в настоящее время попытка выдавить русских из Памира связана уже с англо-саксонской глобальной экспансией. После 11 сентября 2001 года таджики-исмаилиты по обе стороны границы были одними из немногих, кто не поддержал однозначно США.
Как долго России удастся удержать их в зоне своего влияния, зависит теперь уже не от привычных "силовых" мер (борьба с наркотиками, присутствие российских пограничников и т.д.) и не от традиционно сильных позиций русской культуры. Многое зависит от того, найдутся ли в России силы, способные повести долгий и кропотливый диалог с Ага Ханом по согласованию интересов развития Памира и исмаилитских общин с российскими геоэкономическими интересами в регионе. В такой диалог надо заложить лишь два императива - Ага Хан вернулся на Памир, Россия оттуда уходить не будет.
30 апреля 2002 года президент Путин и духовный лидер исмаилитов Ага Хан встретились в Москве и обсудили процесс мирного обустройства Афганистана. "В ходе продолжительной и дружественной дискуссии", как сообщила Би-Би-Си со ссылкой на пресс-службу администрации президента РФ, "Путин и Ага Хан согласились, что необходимо и дальше консолидировать усилия международного сообщества в процессе восстановления социальной сферы и экономики Афганистана". Более того, и в данном случае это важно, две стороны обсудили региональные проблемы, включая разрешение конфликтов.
15 марта 2002 года эксперты влиятельной на Западе Международной Антикризисной группы, которая работает по Средней Азии и Афганистану из киргизского города Ош, подготовили очередной доклад по Афганистану, где указывается, что для обеспечения стабильности в Афганистане следует нарастить международную группировку с 4500 человек до 25-30 тысяч. Что означает на военном языке готовность рискнуть повторить советский опыт вторжения. В случае подобного наращивания войск западной коалиции России придется опереться на таджиков по обе стороны афганской границы.
Сегодня, чтобы сохранить Бадахшан в сфере своих интересов, России необходима новая, всесторонне разработанная, понятная и приемлемая (прежде всего, для местного населения, а не для душанбинских или московских чиновников) политика в регионе. В случае, если Россия наряду с продолжением американской "Большой антитеррористической игры" начнет в Центральной Евразии и собственную "Большую экономическую игру", то она могла бы включить в себя:
1) Развитие горных районов Евразии. Горная хартия СНГ 1997 года, которая регулирует межгосударственное сотрудничество в области изучения, разведки, использования и охраны недр горных территорий, формирует достаточные базовые условия сотрудничества российского государства и исмаилитских организаций на Памире (скажем, Минприроды РФ, соответствующие министерства Киргизии и Таджикистана, Университет Центральной Азии и "организации по развитию" со стороны Ага Хана).
2) Защитный барьер от экстремистов. Держать границу по горным ущельям и перевалам дорого, но дешевле, чем держать оборону на российско-казахском рубеже в случае победы экстремистов в Средней Азии. Поэтому присутствие России в Бадахшане служит безопасности Российского государства. Пока, худо-бедно, но пограничники удерживают "золотые наркотические трассы" Хорог-Ош и Хорог-Душанбе. Присутствие России в Бадахшане защищает наши города от потока наркотиков.
3) Сотрудничество с ключевыми для России странами. Больше ста лет назад Россия крепко встала на "Крыше Мира", чтобы когда-нибудь спуститься вниз по другому памирскому склону - в индийский Кашмир и китайский Кашгар. Пусть не сейчас. Важно - уйдя с Памира, обратно Россия не вернется. Придут другие.
4) Включение России в проект ККЖД. Трасса ККЖД (Китайско-Киргизской железной дороги Кашгар-Андижан) позволит закрепить экономически власть Пекина в мусульманских (тюркских) регионах КНР, но самое главное - позволит России и Китаю начать совместные со среднеазиатскими республиками проекты ресурсного освоения гор.
5) Сохранение в списке лидеров "ресурсной гонки". Кто будет контролировать Памир, тот будет контролировать в XXI веке энергопотребление Китая и Индии. Намеренно обойдены стороной два вопроса - исламистский экстремизм и наркоторговля, так как за ними стоят определенные экономические интересы Пакистана и других государств. Возможно, что в "Большой игре" наступит очередное равновесие, теперь уже с учетом глобальной экономики. Глобализация означает, применительно к горным районам Центральной Евразии, что та сторона (американцы или русские), которая будет политически контролировать добычу и транспортировку энергоресурсов на Памире и через Памир, а также транспортные и коммуникационные потоки, вынуждена будет допустить к экономическому продвижению на тех или иных условиях и вторую сторону (и третью китайскую, пока молчаливую). В ином случае американцы, закрепившись на Памире, вынудят Россию уйти и из остальной Средней Азии.
Высокогорный регион, где проживает лишь несколько сот тысяч человек, позволит контролировать экономики окружающих территорий Индии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии с населением десятки миллионов человек, что является оптимальной из возможных среднеазиатской стратегией России, при ее финансовой слабости и военной силе. И если российской стороне удастся решить сверхзадачу - предоставить Пакистану доступ в Среднюю Азию и сохранить полный контроль над Памиром, при этом, не ущемив интересов главного индийского стратегического союзника в вопросе статуса оккупированных северных территорий штата Джамму и Кашмир. Может так получиться, что англо-саксонская сторона в лице духовного лидера исмаилитов Ага Хана и русская сторона в лице исмаилитов ГБАО и российской исмаилитской диаспоры помогут закончить нынешний тайм "Большой игры" вничью.
Читрал был последней точкой в большой игре между Англией и Россией. Сегодня, общий ход будущей не новой игры вокруг Читрала, Кашмира и Горного Бадахшана, достаточно ясен. В его основе - комбинация сценария афганской войны 1980-х со сценариями совместного захвата Балкан (Косово и Македония) войсками НАТО и албанскими наркотеррористами, формально противостоящими друг другу.
Это тем более верно, что и со стороны США - НАТО, и со стороны исламского наркотерроризма, (основой которого стало проамериканское движение моджахедов) войну готовят те же самые люди. Так что Ага Хан - лишь зеркало нового мирового кризиса. Школы, университеты, центры - стандартный инструмент обретения позиций, плацдармов.
Это борьба за передел минерально-сырьевых ресурсов Центральной и Средней Азии и прикаспийского региона, нехватка которых в мире ощущается уже сегодня. И это не только борьба за ресурсы для себя, но и отсечение от сырьевых запасов главных экономических конкурентов США и НАТО - Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, не говоря уже о России. И если Пакистан и Афганистан - лишь транспортный коридор, для захвата которого и создавался "Талибан", то настоящая цель - это Средняя Азия и Прикаспий, куда этот коридор ведет. И это говорит о том, что отменить войну, судя по всему, уже не получится. Процесс пошел...
Используемая литература:
1. Языки народов мира. Индийская (Индоарийская) группа. Северо-Западная зона.
2. Андрей Фатющенко "В поисках калашей".
3. А.Орлов. "ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ"
4. Игорь Александрович Ермаков. "И мертвый, он остался в моей власти...".
5. Сергей Дарда. "Пояс мира. Летописные парралели в Истории Евроазии".
6. Тенцинг Норгей. "Тигр снегов.После Эвереста".
7. Питер Хопкирк "Большая Игра против России: Азиатский синдром".
8. "Летопись Большой Игры". Материалы форума: http://community.livejournal.com/great_game_ru/
9. Guido Knopp "TOP SPIONE Verraeter im Geheimen Krieg".
10. The Institute of Ismaili Studies. Aga Chan IV.
11. Ш.С. Камалиддинов "Историческая география Южного Согда и Тохаристана по арабоязычным источникам IX - начала XIII вв.".
12. Игорь РОТАРЬ. "Пекину не нужен "наместник Бога"".
13. Г.И. Гурджиев "Встречи с замечательными людьми".
14. Тагеев Б.Л.. "Полуденные экспедиции. Очерки". militera.lib.ru
15. Черчилль У. С. "Индия, Судан, Южная Африка. Походы Британской армии 1897-1900". militera.lib.ru
16. Соболев Л. Н. "Возможен ли поход Русских в Индию?" militera.lib.ru
17. В.В.Дубовицкий. ""ПОБЕГ" ПОЧЕТНОГО ПЕНСИОНЕРА"
18. В.В.Дубовицкий. "Русская геополитика - формирование "Южного" направления геополитического луча".
19. Семенов А. А., "К догматике памирского исмаилизма".
20. Левин С. Ф., "Организации исмаилитской буржуазии в Пакистане"
21. Строева Л. В., "Исмаилиты Ирана и Сирии XI-XII вв. в зарубежной и советской литературе".
22. МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА "Портал ПОГРАНИЧНИК". http://forum.pogranichnik.ru/
23. Данилевский Николай Яковлевич "Россия и Европа"
24. Князев А.А. "Проблемы безопасности Кыргызстана и Центральной Азии в контексте истории афганской войны (1990-е гг.)"
25. Н. Н. Петрухинцев. "Оренбургская экспедиция и "индийские планы"".
26. А. С. Пахомов. "Изменения в программе и структурные преобразования Всеиндийской Мусульманской лиги в годы Второй мировой войны".
27. Л. А. Черешнева. "Была ли альтернатива разделу Британской Индии?".
28. Ю. Н. Тихонов. "Новые данные о сотрудничестве индийских националистов с Коминтерном".
29. Е. М. Кузьмина. "Влияние Афганистана и Великобритании на изменение геостратегических интересов России в Центральной Азии в 1917-24 годах"
30. П. П. Литвинов. "Британская Индия и Русский Туркестан во второй половине ХIХ - начале XX вв."
31. К. В. Симонов. "Проблема соединения железнодорожных сетей России и Индии (середина ХIХ - начало XX века)".
32. Леонид СУМАРОКОВ. "Становление и организация охраны среднеазиатских границ Российской империи в конце XIX - начале XX вв.".
33. С. Лурье "Русские в Средней Азии и англичане в Индии: доминанты имперского сознания и способы их реализации".
34. Павел Лукницкий. "Памир без легенд (рассказы и повести)".
35. Р.Б. Баротов: "Достояние Республики Таджикистан (горы и недра республики)".
--------------------------------------------------------------------------------[/b]
Приложения:
АГА ХАН IV

АГА ХАН III

2003, December 4.Ага-Хан IV в Читрале




Его Высочество Ага Хан IV с Принцессой Халия и Принцем Хусайн

1895 - 1936 H.H. Mehtar Sir Muhammad Shuja ul-Mulk, Mehtar of Chitral


1880, Kabul, Afghanistan. A group of chieftains assemble for tea







Климат Читрала



Перевал из Нуристана (Афганистан) в Читрал (Пакистан)

Дороги Читрала

Дорожная гостиница. Читрал

Мост. Читрал.

Долина Читрал

План города Читрал
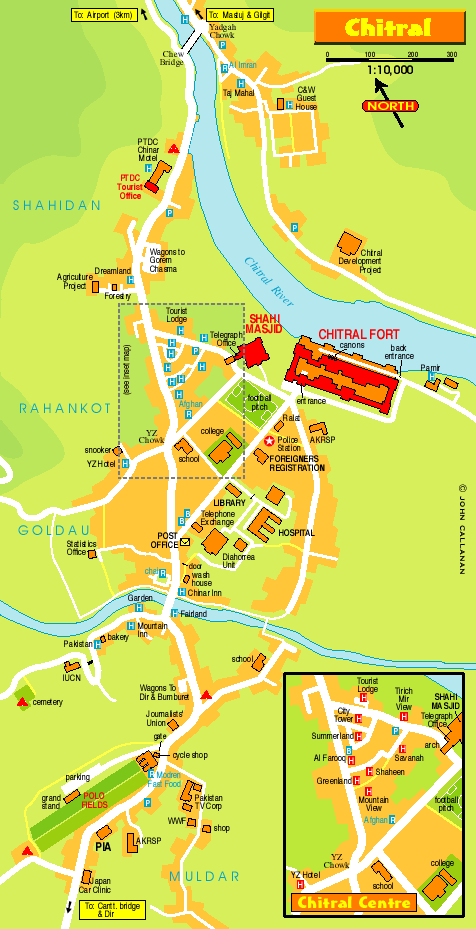
Форт в Читрале
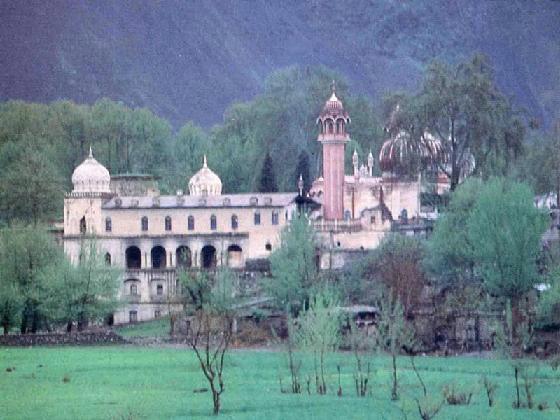
Читрал. Мечеть.

Fokker F-27 Friendship Mk 200.Авиабаза ЧИТРАЛ.

Авиабаза ЧИТРАЛ.


Перевал Lawori

Долина Калаш - KARAKAL.

Threading our way through the Hindu Kush. The rugged route out of the Kalash Valleys.

КАЛАШ





Кладбище Калаш.


Жилище Калаш




Читрал. Пулеметная команда. 1-й королевский стрелковый корпус.1885 г.


Рота Гурхов.

Героин 555 - Три лебедя. Читрал.

А.Грешнов. Хорог. 1995.


Читральские стрелки.Шотландские традиции полка.



Граница. Хорог.


Объект "ОКНО".

© ArtOfWar, 2007 Все права защищены.